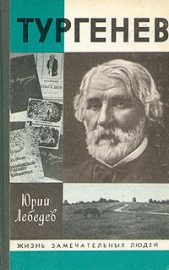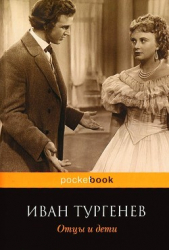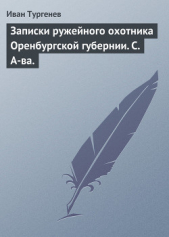Записки охотника. Накануне. Отцы и дети
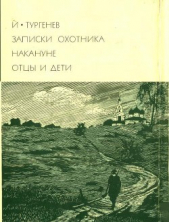
Записки охотника. Накануне. Отцы и дети читать книгу онлайн
Тургенев — один из создателей великого русского реалистического романа, правдивость, глубина и художественные достоинства которого поразили мир. И если верно, что основной магистралью развития всемирной литературы в эпоху реализма был роман, то бесспорно, что одной из центральных фигур этого развития в середине XIX века был Тургенев.
В издание вошли рассказы «Записки охотника», романы «Накануне» и «Отцы и дети».
Вступительная статья С. Петрова.
Комментарии В. Фридлянда и А. Батюто
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Поздравляю вас, милостивый государь, поздравляю, — продолжал он, — правда, не всякий, можно сказать, согласился бы таким образом заррр-работывать себе насущный хлеб; но de gustibus non est disputandum, то есть у всякого свой вкус… Не правда ли?
Кто-то в задних рядах быстро, но прилично взвизгнул от удивления и восторга.
— Скажите, — подхватил г. Штоппель, сильно поощренный улыбками всего собрания, — какому таланту в особенности вы обязаны своим счастием? Нет, не стыдитесь, скажите; мы все здесь, так сказать, свои, en famille. Но правда ли, господа, мы здесь en famille?
Наследник, к которому Ростислав Адамыч случайно обратился с этим вопросом, к сожалению, не знал по-французски и потому ограничился одним одобрительным и легким кряхтением. Зато другой наследник, молодой человек с желтоватыми пятнами на лбу, поспешно подхватил: «Вуй, вуй, разумеется».
— Может быть, — снова заговорил г. Штоппель, — вы умеете ходить на руках, поднявши ноги, так сказать, кверху?
Недопюскин с тоской поглядел кругом — все лица злобно усмехались, все глаза покрылись влагой удовольствия.
— Или, может быть, вы умеете петь, как петух?
Взрыв хохота раздался кругом и стих тотчас, заглушенный ожиданием.
— Или, может быть, вы на носу…
— Перестаньте! — перебил вдруг Ростислава Адамыча резкий и громкий голос. — Как вам не стыдно мучить бедного человека!
Все оглянулись. В дверях стоял Чертопханов. В качестве четвероюродного племянника покойного откупщика он тоже получил пригласительное письмо на родственный съезд. Во все время чтения он, как всегда, держался в гордом отдалении от прочих.
— Перестаньте, — повторил он, гордо закинув голову.
Г-н Штоппель быстро обернулся и, увидав человека бедно одетого, неказистого, вполголоса спросил у соседа (осторожность никогда не мешает):
— Кто это?
— Чертопханов, не важная птица, — отвечал ему тот на ухо.
Ростислав Адамыч принял надменный вид.
— А вы что за командир? — проговорил он в нос и прищурил глаза. — Вы что за птица, позвольте спросить?
Чертопханов вспыхнул, как порох от искры. Бешенство захватило ему дыханье.
— Дз-дз-дз-дз, — зашипел он, словно удавленный, и вдруг загремел: — Кто я? кто я? Я Пантелей Чертопханов, столбовой дворянин, мой прапращур царю служил, а ты кто?
Ростислав Адамыч побледнел и шагнул назад. Он не ожидал такого отпора.
— Я птица, я, я птица… О, о, о!..
Чертопханов ринулся вперед; Штоппель отскочил в большом волнении, гости бросились навстречу раздраженному помещику.
— Стреляться, стреляться, сейчас стреляться через платок! — кричал рассвирепевший Пантелей, — или проси извинения у меня, да и у него…
— Просите, просите извинения, — бормотали вокруг Штоппеля встревоженные наследники, — он ведь такой сумасшедший, готов зарезать.
— Извините, извините, я не знал, — залепетал Штоппель, — я не знал…
— И у него проси! — возопил неугомонный Пантелей.
— Извините и вы, — прибавил Ростислав Адамыч, обращаясь к Недопюскину, который сам дрожал, как в лихорадке.
Чертопханов успокоился, подошел к Тихону Иванычу, взял его за руку, дерзко глянул кругом и, не встречая ни одного взора, торжественно, среди глубокого молчания, вышел из комнаты вместе с новым владельцем благоприобретенной деревни Бесселендеевки.
С того самого дня они уже более не расставались. (Деревня Бесселендеевка отстояла всего на восемь верст от Бессонова.) Неограниченная благодарность Недопюскина скоро перешла в подобострастное благоговение. Слабый, мягкий и не совсем чистый Тихон склонялся во прах перед безбоязненным и бескорыстным Пантелеем. «Легкое ли дело! — думал он иногда про себя, — с губернатором говорит, прямо в глаза ему смотрит… вот те Христос, — так и смотрит!»
Он удивлялся ему до недоумения, до изнеможения душевных сил, почитал его человеком необыкновенным, умным, ученым. И то сказать, как ни было худо воспитание Чертопханова, все же, в сравнении с воспитанием Тихона, оно могло показаться блестящим. Чертопханов, правда, по-русски читал мало, по-французски понимал плохо, до того плохо, что однажды на вопрос гувернера из швейцарцев: «Vous parlez francais, monsieur?» [79] — отвечал: «Жэ не разумею, — и, подумав немного, прибавил: — па»; но все-таки он помнил, что был на свете Вольтер, преострый сочинитель, что французы с англичанами много воевали и что Фридрих Великий, прусский король, на военном поприще тоже отличался. Из русских писателей уважал он Державина, а любил Марлинского и лучшего кобеля прозвал Аммалат-Беком…
Несколько дней спустя после первой моей встречи с обоими приятелями отправился я в сельцо Бессоново к Пантелею Еремеичу. Издали виднелся небольшой его домик; он торчал на голом месте, в полуверсте от деревни, как говорится, «на юру», словно ястреб на пашне. Вся усадьба Чертопханова состояла из четырех ветхих срубов разной величины, а именно: из флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый сруб сидел отдельно, сам по себе: ни забора кругом, ни ворот не замечалось. Кучер мой остановился в недоумении у полусгнившего и засоренного колодца. Возле сарая несколько худых и взъерошенных борзых щенков терзали дохлую лошадь, вероятно Орбассана; один из них поднял было окровавленную морду, полаял торопливо и снова принялся глодать обнаженные ребра. Подле лошади стоял малый лет семнадцати, с пухлым и желтым лицом, одетый казачком и босоногий; он с важностью посматривал на собак, порученных его надзору, и изредка постегивал арапником самых алчных.
— Дома барин? — спросил я.
— А Господь его знает! — отвечал малый. — Постучитесь.
Я соскочил с дрожек и подошел к крыльцу флигеля. Жилище господина Чертопханова являло вид весьма печальный: бревна почернели и высунулись вперед «брюхом», труба обвалилась, углы подопрели и покачнулись, небольшие тускло-сизые окошечки невыразимо кисло поглядывали из-под косматой, нахлобученной крыши: у иных старух-потаскушек бывают такие глаза. Я постучался: никто не откликнулся. Однако мне за дверью слышались резко произносимые слова:
— Аз, буки, веди; да ну же, дурак, — говорил сиплый голос, — аз, буки, веди, глаголь… да нет! глаголь, добро, есть! есть!.. Ну же, дурак!
Я постучался в другой раз.
Тот же голос закричал:
— Войди, — кто там…
Я вошел в пустую маленькую переднюю и сквозь растворенную дверь увидал самого Чертопханова. В засаленном бухарском халате, широких шароварах и красной ермолке сидел он на стуле, одной рукой стискивал он молодому пуделю морду, а в другой держал кусок хлеба над самым его носом.
— А! — проговорил он с достоинством и не трогаясь с места, — очень рад вашему посещенью. Милости прошу садиться. А я вот с Вензором вожусь… Тихон Иваныч, — прибавил он, возвысив голос, — пожалуй-ка сюда. Гость приехал.
— Сейчас, сейчас, — отвечал из соседней комнаты Тихон Иваныч. — Маша, подай галстук.
Чертопханов снова обратился к Вензору и положил ему кусок хлеба на нос. Я посмотрел кругом. В комнате, кроме раздвижного покоробленного стола на тринадцати ножках неравной длины да четырех продавленных соломенных стульев, не было никакой мебели; давным-давно выбеленные стены, с синими пятнами в виде звезд, во многих местах облупились; между окнами висело разбитое и тусклое зеркальце в огромной раме под красное дерево. По углам стояли чубуки да ружья; с потолка спускались толстые и черные нити паутин.
— Аз, буки, веди, глаголь, добро, — медленно произносил Чертопханов и вдруг неистово воскликнул: — Есть! есть! есть!.. Экое глупое животное!.. есть!..
Но злополучный пудель только вздрагивал и не решался разинуть рот; он продолжал сидеть, поджавши болезненно хвост, и, скривив морду, уныло моргал и щурился, словно говорил про себя: известно, воля ваша!
— Да ешь, на! пиль! — повторял неугомонный помещик.
— Вы его запугали, — заметил я.
— Ну, так прочь его!
Он пихнул его ногой. Бедняк поднялся тихо, сронил хлеб долой с носа и пошел, словно на цыпочках, в переднюю, глубоко оскорбленный. И действительно: чужой человек в первый раз приехал, а с ним вот как поступают.