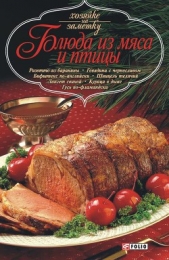Кровавый пуф. Книга 2. Две силы

Кровавый пуф. Книга 2. Две силы читать книгу онлайн
Первый роман знаменитого исторического писателя Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы» уже полюбился как читателю, так и зрителю, успевшему посмотреть его телеверсию на своих экранах.
Теперь перед вами самое зрелое, яркое и самое замалчиваемое произведение этого мастера — роман-дилогия «Кровавый пуф», — впервые издающееся спустя сто с лишним лет после прижизненной публикации.
Используя в нем, как и в «Петербургских трущобах», захватывающий авантюрный сюжет, Всеволод Крестовский воссоздает один из самых малоизвестных и крайне искаженных, оболганных в учебниках истории периодов в жизни нашего Отечества после крестьянского освобождения в 1861 году, проницательно вскрывает тайные причины объединенных действий самых разных сил, направленных на разрушение Российской империи.
Книга 2
Две силы
Хроника нового смутного времени Государства Российского
Крестовский В. В. Кровавый пуф: Роман в 2-х книгах. Книга 2. — М.: Современный писатель, 1995.
Текст печатается по изданию: Крестовский В. В. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3–4. СПб.: Изд. т-ва "Общественная польза", 1904.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
"Фу! какое проклятое существование!
…"Но как же быть, однако, и что делать?" опять встает все тот же роковой, неотразимый вопрос.
…"Надо решиться.
"Да, надо. Но на что решиться?
…"Ехать в Варшаву и…
"Служить?
…"Да, служить в военной службе, коли уж решился раз и нарочно поехал за тем. Служить… Конечно! И непременно служить!
"И как?.. Пожалуй, "верой и правдой"? — насмешливо подшептывает какой-то внутренний, беспощадно язвящий, иронический голос.
…"Да!.. И верой и правдой, как служит Холодец, Устинов, например, как все порядочные и честные люди…" "Я на двух стульях сидеть не умею" — ах, какое это у него убийственное колючее, беспощадное, прожигающее слово вырвалось сегодня!..
"А вы, милостивый государь, небойсь, и на двух как-нибудь усидите, сбалансируете? ась?
…"Нет, черт возьми… Врешь!.. Врешь, подлец!" — с нервным скрежетом зубов и с подергиваньем личных мускулов, говорит какой-то внутренний возмутившийся честный голос: "Не стану! Не усижу! Не хочу, не буду сидеть!"
"А Цезарина?"
И опять наплывет темное, беспомощное, беззащитное бессилье, которое как-то сковывает и душу, и мысль, и руки, опущенные, повисшие как плети…
…"Итак! опять-таки на что же решиться?
"Ехать и служить… служить просто, ничего не предпринимая по этому делу, не ходить к Палянице, не предъявлять ему своего условного числа… то есть ровно-таки ни шагу не делать в этом направлении самому и ждать, пока что-нибудь не случится особенное.
…"Да что же именно?
"Что? Не знаю… Что-нибудь!.. Как судьба укажет…"
Он в эту минуту был похож на того голодного фаталиста-дервиша, который подставил свою голову под страшную грозовую тучу и, ничего вперед не загадывая точного и определенного, ждал что будет? ждал безнадежно, что может из этой тучи убьет его громом небесным, а может она же пошлет ему и небесную манну.
Между тем, несмотря на все сомнения, на всю нерешительность, на все бессилие воли пред всепокоряющей мыслью о Цезарине, несмотря даже на недавно зародившееся злобное отвращение к панам полякам и их панскому делу, его все словно бы тянуло перегнуться через тоненькую жердь, зыбко обрамлявшую этот колодезь, и пытливо заглянуть в его темную, мглисто-черную глубину. Это в Хвалынцеве было несколько похоже на давешное чувство при виде ужа: его и тянуло любоваться на красиво изгибающуюся змею, и почему-то неприятно, нервно тяжело было смотреть на нее, как она обвивалась вокруг руки доктора и проделывала свои уморительно смешные, но в то же время грациозные курбеты.
Это также похоже было и на "чувство темноты", на то особенно знакомое детям чувство темной комнаты, когда они, в темнеющие сумерки, забившись в уголок около печки и тесно прижавшись друг к дружке, рассказывают себе страшные, морозом подирающие сказки о мертвецах и привидениях, а густая, таинственная тьма смежной пустой комнаты, меж тем, глядит на них сквозь открытую дверь… Итак жутко становится на душе, так боязно, а между тем что-то так и подмывает, чтобы — нет-нет да и бросить косящийся взгляд в эту немую и почему-то страшную, пугающую тьму… и все думаешь, слушаешь, ежишься и ждешь, что вот-вот сейчас оттуда покажется из темноты и заглянет слегка в дверь что-то белое, страшное, неведомое… и боишься его, и хочешь, чтоб оно показалось, — и потому снова и снова невольно, с каким-то жутким, замирающим наслаждением ужаса косишься на страшную темноту, глядящую в дверь этой смежной комнаты.
Нечто подобное, напоминающее ощущение детства, только вызванное более серьезной причиной, испытывал теперь Хвалынцев, шагая по значительно опустевшей, темной улице незнакомого города.
Он, наконец, оглянулся, пришел в себя и заметил, что зашел не туда, куда следовало, и очутился около ворот Борисоглебского монастыря… Лампада тускло мерцала пред образом, в глубине надворотной часовни… Вокруг все так пусто, тихо, безлюдно… Вдалеке кое-где огоньки виднеются в окнах убогих деревянных домишек… Собака где-то завывает так жалобно и протяжно. Хвалынцеву вдруг стало еще жутче как-то. Он быстро повернулся и спешными шагами пошел назад к нумерам Эстерки.
"Итак, на чем же мы остановились?" задал он себе опять пытающий вопрос. "Да!.. Ехать, служить, ничего не предпринимая и… ждать что будет".
И — странное дело! — остановясь на таком почти неопределенном решении, он вдруг почувствовал себя как-то легче и спокойнее.
Это опять-таки было чувство страуса, в минуту опасности, в минуту преследования врагом, прячущего свою голову в колючий куст иссохшего терновника и воображающего, что если он не видит, то значит, уже укрыт и безопасен.
Страус, конечно, жестоко ошибается; но страусу все-таки становится от этого и легче, и спокойнее.
XI. Опять неприятности
Придя в свой номер, Хвалынцев узнал, что Свитка все еще не возвращался.
"Ну, как бы то ни было, придет он, или не придет, а завтра утром я еду", решил себе Константин, скидая и передавая человеку свое пальто.
Тот вздел его на вешалку и вдруг с удивлением и улыбкой в голосе процедил себе сквозь зубы:
— Э-э!.. От-то штука!.. а-га!.. Бардзо [131] чисто!.. Ось як!.. И-и!.. и тут!
— Что там такое? — обернулся на него Хвалынцев.
— Прошен' пана!.. Hex пан сам зобачи!
И он развернул обе полы. Вся спина пальто как бы не существовала: на ней в нескольких местах виднелись пятнистые дыры различных величин, словно бы вещь была облита сзади какой-либо едкой жидкостью.
— Что это!? — в недоумении спросил Хвалынцев.
— Витриоля! [132] — с обычной своей плюхопросящей, равнодушно-подсмеивающеюся ухмылочкой пояснил ему нумерной.
— Ах ты черт возьми!.. Где это угораздило так!?
— Альбож я вем? — пожал плечами лакей, — а пенкне таки пан убралсен!..
— Экие мерзавцы! — с досадой выбранился Хвалынцев. — Хорошая вещь — и теперь хоть к черту бросай!.. Какие негодяи, однако!
— Ктось то? — с наглою, притворно-непонимающею и как бы дразнящею миной, уставился на него лакей глазами.
— Кто?.. Ваши братья полячишки поганые!.. Вот кто!
— Пршепрашам пана! Нигды! — поднял лакей свою голову с тою характерной "гордостью народовей", по выражению Холодца, которая способна еще более раздражать и без того уже раздраженного человека. — Нигды, муй пане! Поляцы то завше сон' наипоржонднейшы люд у свеци! То шляхетны люд, муй пане, а не таки, як пан муви!.. А може для тэго так сробили пану, — пояснил он, помолчав немного, — же пан есть москаль… може пан, на улицы размавиал з ким по-москевську?
— Так по-каковски же мне говорить, черт вас возьми!
— А, ну — то так есть!
— В полицию бы за это за решетку! чтобы поморили хорошенько! — досадливо бормотал себе под нос наш революционер, возмущавшийся бывало при самом слове «полиция» — и увы! опять-таки не почувствовал теперь за столь преступную мысль ни малейших угрызений совести.
— А! до полиции? — Можно и так! Алежь впршуд налёжы бым злапац, [133] а пан не злапал… Хе, хе, хе-ее!
— Ну, жаль, что не заметил, а уж избил бы хоть, по крайней мере! — ходючи по комнате говорил Хвалынцев, срывая свою бессильную досаду этим бесплодным бормотаньем, хотя сам в душе своей и знал, что ведь никак бы не избил; но теперь ему хотелось так думать, что избил бы непременно.
Лакей опять ухмыльнулся с выводящей из пределов терпения "гордосцью народовей".
— А-а, бицьсен'! — расставил он руки, пожимая плечами. — Пршепрашам пана! бицьсен' ту не вольне!.. Може в России то вольне — невем тэго, а в Польскей — то кэпьски интэрес, муй пане… О-ой, бардзо кэпьски!
Хвалынцеву стало, наконец, казаться, что пан лакей не то издевается над ним, не то нотации ему читает. Это его взорвало.
— Что?! — крикнул он, сдвинув сердито брови и быстро подступая к пану лакею.