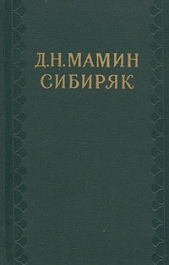Том 3. Горное гнездо
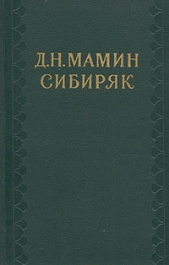
Том 3. Горное гнездо читать книгу онлайн
Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.
В третий том Собрания сочинений Д. Мамина-Сибиряка вошли: роман «Горное гнездо» и цикл «Уральские рассказы».
К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я это уже слыхала, Раиса Павловна, и не могу понять, при чем я-то тут? — спрашивала Луша.
— Вот о тебе и речь, Луша… Ты молода, красива, по-своему умна и обладаешь счастливым характером. Словом, в твоих руках все данные, чтобы устроить свою жизнь настоящим образом. Я буду счастлива уже тем, если когда-нибудь услышу, что ты хорошо устроилась, в чем я не сомневаюсь. Ты начинаешь с того, с чего когда-то следовало начать и мне, но я пропустила лет тридцать, а родиться во второй раз для повторения опыта не приведется. Прейн из мужчин его круга недурной человек и сумеет обставить тебя совершенно независимо; только нужно помнить одно, что в твоем новом положении будет граница, через которую никогда не следует переступать, — именно: не нужно… как бы это сказать… не нужно вставать на одну доску с продажными женщинами.
— Вы ошибаетесь, Раиса Павловна, принимая меня за одну из таких тварей…
— Нет, совсем не то; я хочу только сказать тебе, что нужно беречь себя и серьезно работать. У тебя будет в руках масса дел и людей, и ты можешь ими пользоваться по своему усмотрению. А главное…
Раиса Павловна на мгновение остановилась и закрыла даже глаза, точно собираясь с силами произнести роковое слово.
— Что «главное»? — спросила Луша, довольная этим патетическим движением, которому не верила.
— Главное, Луша… — глухо ответила Раиса Павловна, опуская глаза, — главное, никогда не повторяй той ошибки, которая погубила меня и твоего отца… Нас трудно судить, да и невозможно. Имей в виду этот пример, Луша… всегда имей, потому что женщину губит один такой шаг, губит для самой себя. Беги, как огня, тех людей, то есть мужчин, которые тебе нравятся только как мужчины.
— Благодарю за хороший совет; но опять прошу вас, Раиса Павловна, не повторять имени отца; иначе я попрошу вас удалиться отсюда.
— Ты меня гонишь? Ах, да, ведь не ты одна — все меня гонят… Но ты забываешь только одно, что я тебе желаю добра и даже забываю, что ты ненавидишь меня.
— Это уж мое дело, Раиса Павловна… Надеюсь, вы кончили?
— Да, почти. Все равно, я сейчас ухожу.
Раиса Павловна накинула на голову шаль, но медлила уходить, точно ожидая, что Луша ее остановит. Она, кажется, никогда еще не любила так эту девочку, как в эту минуту, когда она отвертывалась от нее совсем открыто, не давая себе труда хотя сколько-нибудь замаскировать свою ненависть.
— Прощай, Луша! — проговорила с трудом Раиса Павловна, не решаясь подойти к не трогавшейся с места девушке. — Мне хотелось тебя поцеловать в последний раз, но ведь ты не любишь нежностей…
Луша молчала; ей тоже хотелось протянуть руку Раисе Павловне, по от этого движения ее удерживала какая-то непреодолимая сила, точно ей приходилось коснуться холодной гадины. А Раиса Павловна все стояла посредине комнаты и ждала ответа. Потом вдруг, точно ужаленная, выбежала в переднюю, чтобы скрыть хлынувшие из глаз слезы. Луша быстро поднялась с дивана и сделала несколько шагов, чтобы вернуть Раису Павловну и хоть пожать ей руку на прощанье, но ее опять удержала прежняя сила.
— К чему? — проговорила она вслух, прислушиваясь к звукам собственного голоса. — Зачем она приходила? Ах, да… Все это одна сплошная ложь, последняя ложь!
Луша даже засмеялась, хотя на душе у ней было тяжело, точно там лежал какой камень. Итак, Раиса Павловна уничтожена. Она сама сейчас говорила это вот здесь. Куда она теперь денется с своим Платоном Васильичем, который глуп, как семьдесят баранов? Тетюев торжествует, и пусть торжествует: его счастье. То-то теперь все переполошились и начнут наперерыв заискивать перед новым временщиком, чтобы удержать за собой насиженные местечки, а может быть, и получить новые получше. И Нина Леонтьевна тоже торжествует и будет уверена, что это она столкнула Раису Павловну. Вот и еще размалеванная дура!
«А между тем мне стоит сказать одно слово, — и все торжество этих мерзавцев разлетится прахом», — думала Луша с удовольствием, взвешивая свое влияние на Прейна.
Ее подмывало детское желание разрушить всю городьбу Нины Леонтьевны и Тетюева, но она удержалась. Пускай события идут своим естественным путем, как им следует идти. Ее личные счеты с Раисой Павловной кончены навсегда, а мертвых с кладбища не носят.
В тот же день вечером, когда все улеглось в господском доме на покой, Евгений Константиныч раньше обыкновенного простился с Прейном, ссылаясь на усталость. Когда шаги Прейна затихли, набоб торопливо накинул на себя плед, надел шотландскую шапочку и осторожно вышел из комнаты; он миновал парадную приемную, потом столовую и очутился на садовой террасе. Ночь была мягкая, хотя и сырая после вечернего дождя; только что родившийся молодой месяц причудливо освещал колебавшиеся широкими полосами купы деревьев, зеленые стены акаций и разбитые веером цветочные клумбы. Берег был окутан клубами тихо шевелившегося тумана; выметывавшее из доменных печей пламя отражалось легкими вспышками, а от фабрики тянулся неясный сдержанный гул, точно какое громадное животное ворчало во сне. Спустившись с террасы, набоб пошел налево, в дальний угол сада; его охватила ночная сырость, которая заставляла неприятно вздрагивать. Вот и туманная полоса берега, вот те две ели и маленькая зеленая скамейка под ними.
«Здесь…» — подумал набоб, еще раз прочитывая в уме полученную вечером записку.
Эта записка была от женщины, и набоб испытывал то приятное волнение, какое овладевает человеком в неизвестном ожидании. Кто писал эту записку? — набоб терялся в догадках, хотя желал думать, что она была написана Лушей. Сколько сотен таких записок получал Евгений Константиныч на своем веку, как все они были похожи одиа на другую и вместе с тем каждая имела свою особенность. Были записки серьезные, умоляющие, сердитые, нежные, угрожающие, были записки с упреками и оскорблениями, с чувством собственного достоинства или уязвленного самолюбия, остроумные, милые и грациозные, как улыбка просыпающегося ребенка, и просто взбалмошные, капризные, шаловливые, с неуловимой игрой слов и смыслом между строк, — это было целое море любви, в котором набоб не утонул только потому, что всегда плыл по течению, куда его несла волна. Маленькие атласные конверты служили гнездышком раздушенным розовым листочкам, точно это были лепестки какой-то необыкновенной розы. Но полученная набобом записка сегодная была таинственна, как сфинкс, и он долго ломал над ней голову.
«Приходи на берег пруда, где стоят две ели, — гласила записка, — там узнаешь одну страшную тайну, которую ношу в своем сердце много-много дней… Люди бессильны помешать нашему счастью. — Твой добрый гений».
Закутавшись в плед, набоб терпеливо шагал по мокрому песку, ожидая появления таинственной незнакомки. Минуты шли за минутами, но добрый гений не показывался. «Уж не подшутил ли кто надо мной?» — подумал набоб и сделал два шага назад, но в это время издали заметил закутанную женскую фигуру и пошел к ней навстречу. По фигуре это была Луша, и сердце набоба дрогнуло.
— Ты не узнал меня? — спросил его добрый гений, когда они пошли по песчаной дорожке рядом.
— Нет… не догадываюсь.
Незнакомка сильно куталась в большой платок, так что ее лица нельзя было рассмотреть; но голос был изменен; очевидно, добрый гений хотел поинтриговать предварительно.
— Я знаю, что ты меня любишь, — продолжал гений прежним измененным голосом, — но злые люди нас постоянно разделяли. Везде интриги и коварство. Но я тебя тоже люблю и вот пришла сюда сама сказать это…
— Открой лицо, — просил набоб, начиная сомневаться в подлинности гения.
— Поклянись, что ты меня всегда будешь любить?
— Я уже клялся тебе раз… там, в горах.
— О нет… Это был обман.
Чтобы покончить эту комедию, набоб, под предлогом раскурить сигару, зажег восковую спичку и сам открыл платок гения. И попятился даже назад от охватившего его чувства ужаса: перед ним стояла Прасковья Семеновна и смотрела на него своим сумасшедшим взглядом.
— Узнал?.. — шептала она, протягивая к нему руки с улыбкой.