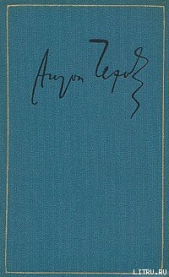Том 5. Повести, рассказы, очерки, стихи 1900-1906

Том 5. Повести, рассказы, очерки, стихи 1900-1906 читать книгу онлайн
В пятый том вошли произведения, написанные М.Горьким в 1900–1906 гг. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Трое», «Песня о Буревестнике», «Злодеи», «Человек», «Тюрьма», «Рассказ Филиппа Васильевича», «Девочка», «А.П. Чехов», «Букоёмов, Карп Иванович». Эти произведения неоднократно редактировались М.Горьким. В последний раз они редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 гг.
Остальные шестнадцать произведений пятого тома включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями, эти произведения, опубликованные в газетах, журналах, сборниках, нелегальных революционных изданиях 900-х годов, М.Горький повторно не редактировал. Не законченное М.Горьким произведение «Публика» полностью печатается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мишка, притопывая ногой, кричал вслед ему:
— Пососи-ка свою кровь, пархатый! Христа распял — ага!
…Я спрашиваю — кто виноват, что среди вас, господа, всё ещё живёт этот позорный предрассудок, порождающий ненависть даже в сердцах детей? — Э, да он юдофил! — сказала публика. И хотя некоторые тотчас же подумали, что евреи заплатили рассказчику денег за такое отношение к ним, другие же просто нашли рассказ скверным, — но однако все твердо знали, что внешнее сочувствие гонимому народу — необходимый признак порядочности и, были уверены, не налагает на них никаких обязанностей, а потому — все рукоплескали ему.
Он смущённо посмотрел на публику, подумал и продолжал.
Далее в рукописи следует рассказ, напечатанный в настоящем томе под заглавием «Рассказ Филиппа Васильевича» — Ред.
Он кончил свой рассказ и замолчал и, бледный, вопросительно смотрел на публику, а она приятно улыбалась и оживлённо рукоплескала ему.
Ей понравилась маленькая история, этот дворник-поэт был забавен, а весёлая девица, вся в белом, — очень мила, но эта добрая публика не заметила в рассказе той наивной простоты, с которой люди издеваются над человеком.
Те же, которым была понятна цель рассказа, нашли, что пример взят неудачно: им были известны случаи более жестокой травли человека.
И как ни забавен был герой рассказа, он всё же многим показался сочинённым, и многие из публики находили, что было бы правдивее заменить его приказчиком, — они, видимо, находили, что торговля ближе к поэзии, чем простой мускульный труд.
Другие замечали, что не следовало автору заставлять своего героя стреляться: по их мнению, этот род самоубийства был не типичен для дворника и в интересах художественной правды было бы лучше, если б он повесился.
Одним рассказ казался длинен, другие утверждали, что он слишком краток, большинство же, как всегда, скромно молчало, ожидая, когда составится то мнение, к которому удобнее присоединиться.
Но все рукоплескали, ибо надо же выражать одобрение забавникам!
— Молчание! — вскричал автор. — Мои слова — серьёзнее рукоплесканий, и говорю я их не для того, чтобы оставить память о себе, а для того, чтобы они вонзились в вашу память, подобно раскалённым иглам!
— Я был свидетелем неисчислимого множества ваших преступлений против человека, я видел поругание его и слышал стоны истерзанных сердец, и горечь его скорби отравила мне сердце, а память моя полна ужасов, и поэтому теперь я чувствую себя обвинителем, призванным из глубин жизни напомнить вам все ваши злые, грязные и скверные дела!
— Я хотел бы, чтоб голос мой был подобен трубе архангела, возвещающего миру час страшного суда, я хочу возбудить в сердцах ваших трепет ужаса и зажечь в них пламя отчаяния и воздвигнуть полумёртвых к жизни, к борьбе со скверной внутри и вне вас, я хочу возбудить в людях уважение к человеку.
— Вот я расскажу вам ещё один случай.
Душная летняя ночь, без звёзд и луны, властно окутала город, и, как большое утомлённое животное, он глухо рычал, погружаясь в сон.
Медленно и зловеще двигались чёрные облака, опускаясь тяжёлым покровом всё ниже и ниже к земле; покрытые пылью деревья городского сада стояли неподвижно, точно они задохнулись и умерли в душной тьме.
В тёмный, густо заросший угол сада, где я лежал, доносилась военная музыка — играли марш, в нём был слышен топот лошадей, плач женщин, чья-то прощальная песнь, и эти звуки, сливаясь с ними, заглушало тяжёлое дыхание паровой машины на осветительной станции.
Я лежал на старой, расшатанной скамье, под кустами акации, прислушивался, как голод сосёт моё тело, у меня кружилась голова от слабости, и острое чувство злобы на жизнь, ещё недавно терзавшее меня так же мучительно, как голод — теперь, — это чувство умирало во мне.
Где-то далеко, во тьме среди деревьев, тревожно сверкали огни, и казалось, что они хотят оторваться от земли и улететь в печальное, тёмное небо.
Из-за поворота аллеи показалась маленькая круглая фигурка женщины; неторопливо и качаясь с боку на бок, она подходила ко мне всё ближе, вполголоса напевая, и скоро я разобрал слова её песни:
Мелодия звучала задумчиво и грустно, но, когда женщина заметила меня на скамье, она весело, заигрывающим тоном, проговорила:
— Батюшки, кто-то лежит… ай, страх какой!
Я не ответил, не пошевелился. И она прошла мимо, зорко присматриваясь ко мне, а пройдя, запела снова, но уже громче и с удальством:
Мне показалось, что если я сяду и крепко сожму живот руками, то не буду так сильно чувствовать сухую боль голода. Тяжело повернувшись, я сел. Скамья жалобно заскрипела, и этот стонущий, тонкий звук заставил женщину оглянуться. Её песня оборвалась. Одинокая, тяжёлая капля дождя упала мне на руку, и я зачем-то слизал её языком.
Женщина незаметно воротилась и встала против меня.
— Ты что тут сидишь? — спросила она. — Пьяный, что ли?
— Уйдите, — ответил я. — Я не пьян… и… вам не нужен…
— Да мне и никто не нужен, — спокойно и звонко сказала она. — Наплевать мне на всех вас…
Она подошла к скамье, села рядом со мной, зажгла спичку и, осветив моё лицо, протянула насмешливо:
— Н-ну и рожа…
Она закурила папиросу и стала раскачивать корпусом — скамейка от этого скрипела, а мне казалось, что этот жалобный скрип раздаётся в моём теле. Папироса, вспыхивая, освещала лицо моей соседки — это было миленькое, круглое русское девичье лицо, с голубыми ясными глазами и ещё не погасшим румянцем на полных щеках.
— Больной, что ли? — спросила она.
— Да, — ответил я.
— пропела девушка тихонько и в нос… Потом, не глядя на меня, спросила:
— Ночевать негде?
— Негде…
— Ну, вот. А я… всегда найду себе место… только захотеть… Ну, однако не хочу…
И она, упрямо тряхнув головой, отшвырнула папиросу в кусты.
— Не хочу… Ты — голодный?
— Да, — тихо сказал я.
— А я — сытёхонька… час назад — щи ела в трактире и котлеты… с луком… Горячие котлеты… вкусно! Чай, поел бы котлет?
Она засмеялась звонким смехом, похожим на холодный звук разбиваемого стекла.
Мне захотелось уйти, но, встав на ноги, я пошатнулся и понял, что лучше уж сидеть здесь, чем валяться где-нибудь на улице.
— Не держат ножки-то! — заметила моя соседка, и в её голосе — мне показалось — прозвучала какая-то радость. С минуту она молчала. Музыка перестала играть, и теперь в воздухе было слышно только усталое, тяжёлое дыхание машины.
— Слушай! — вдруг ласково и негромко заговорила девица, близко наклоняясь ко мне. — Хочешь, я тебе дам… двугривенный?.. а? Хочешь, ну?
— Дайте… — тихо сказал я, — я вам отдам… потом…
От предвкушения возможности поесть я даже задрожал весь жадной дрожью голодного.
— Видишь? Вот он, двугривенный… вот! Сколько на него можно купить… ты подумай!.. Два дня сыт будешь! Ну, дать?
Я молча протянул руку.
— Значит, дать?
Вдруг она громко засмеялась, ударила меня по руке, широко размахнулась и кинула монету в кусты. Я слышал тихий металлический звон — это двугривенный задевал ветки, падая на землю, во тьму.
Не понимая её поступка, я молча смотрел на неё.
А она, отступив на шаг от меня, наклонилась и злым громким голосом заговорила:
— Видал? Ты думал — и вправду дам я тебе на хлеб? Как же, нашёл дуру… И если б вас тут сотня с голоду издыхала — всё равно… Прощай…