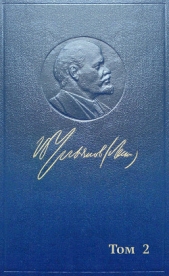Том 23. Статьи 1895-1906

Том 23. Статьи 1895-1906 читать книгу онлайн
В двадцать третий том вошли статьи, написанные М. Горьким в 1895–1906 годах. После первой публикации в периодической печати статьи автором не редактировались и не переиздавались. Исключение составляют два отрывка из статьи «Заметки о мещанстве». Они неоднократно редактировались автором и дважды переиздавались в сборнике М. Горького «Статьи 1905–1916 гг.», издание «Парус», Петроград, 1917 и 1918. В последний раз эту статью М. Горький редактировал при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов, для предполагавшихся томов публицистики; однако эти томы не были выпущены в свет. Таким образом, все статьи настоящего тома включаются в собрание сочинений впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ещё со времён «Скучной истории» начали говорить о Чехове. «Да, конечно, это талант крупный, но…» и, подражая Сент-Беву, старались превратить похвалу в гнездо ос. А Чехов слушал — впрочем, вероятнее, не слушал — и писал. В самом начале трудной литературной карьеры Чехова один из наших критиков, наиболее бездарный и тем отличающийся от других, менее бездарных, пророчил о нём как о человеке, который сопьётся и умрёт под забором [84]. Критик этот жив до сего дня, и… я не хотел бы быть на его месте, если он не забывает того, что пишет. Критик этот умрёт, и тогда о нём вспомнят, немножко попишут о нём и снова забудут его. А когда умрёт Чехов — умрёт один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, правдивый, — друг, любящий её, сострадающий ей во всём, и Россия вся дрогнет от горя и долго не забудет его, долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям, освещённым грустной улыбкой любящего сердца, по его рассказам, пропитанным глубоким вниманием жизни, мудрым беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного и чуткого человека, который всё понимает.
Человек, который всё понимает, очень несчастный человек, у него непременно должна быть та болезненная трещина в сердце, о которой говорит Гейне [85]. Он, этот человек, видит пред собою жизнь такой, какова она есть, — отдельные жизни — как нити, а всё вместе — как огромный, страшно спутанный клубок. Этот клубок болтается где-то в пространстве и весь трепещет от силы противоположных стремлений и страстей. Одну и ту же нитку тянет в разные стороны.
Жена лавочника Цыбукина говорит своему сыну, сыщику:
«Живём мы хорошо, всего у нас много… только вот скучно у нас. Уж очень народ обижаем. Сердце моё болит, дружок, обижаем как — и боже мой!»
Ей не хочется обижать народ, но порядок жизни таков, что надо обижать.
А сын её, сыщик, отправляясь подделывать рубли и полтинники, говорит:
«Теперь так говорят, что будто конец света пришёл оттого, что народ ослабел, родителей не почитают и прочее. Это пустяки. Я так, мамаша, понимаю, что всё горе оттого, что совести мало в людях…»
Его давно уже тяготят мучения совести, но он всё-таки делает фальшивые рубли. Это очень правдиво, это удивительно верно взято Чеховым. Ведь, милостивые государи, как подумаешь хорошенько — все мы фальшивые монетчики! Не подделываем ли мы слово — серебро, влагая в него искусственно подогретые чувства? Вот, например, искренность — она почти всегда фальшивая у нас. И всякий знает, сколько он лжёт даже тогда, когда говорит о правде, о необходимости любви к ближнему, уважения к человеку. И постоянно каждого из нас, как Анисима Цыбукина, тянет в противоположные стороны, к заботам о воплощении в жизнь истины и справедливости и к езде верхом на шее ближнего. Всего более и всего чаще в человеке борются два взаимно друг друга отрицающие стремления: стремление быть лучше и стремление лучше жить. Объединить эти два позыва в стройное одно — невозможно при существующей путанице жизни.
Чехов понимает этот разрыв в человеке как никто и как никто умеет в простой и ослепительно ясной форме рисовать трагикомедии на этой почве. Он не говорит нового, но то, что он говорит, выходит у него потрясающе убедительно и просто, до ужаса просто и ясно, неопровержимо верно. И потом, речь его всегда облечена в удивительно красивую и тоже до наивности простую форму, и эта форма ещё усиливает значение речи. Как стилист, Чехов недосягаем, и будущий историк литературы, говоря о росте русского языка, скажет, что язык этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов. Его упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый упрёк! Миросозерцание в широком смысле слова есть нечто необходимо свойственное человеку, потому что оно есть личное представление человека о мире и о своей роли в нём.
В этом смысле оно свойственно даже таракану, что и подтверждается тем, что большинство из нас обладает именно тараканьим миросозерцанием, то есть сидит всю жизнь в тёплом месте, шевелит усами, ест хлеб и распложает таракашков.
У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание, — он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше её. Он освещает её скуку, её нелепости, её стремления, весь её хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка зрения неуловима, не поддаётся определению — быть может, потому, что высока, — но она всегда чувствовалась в его рассказах и всё ярче пробивается в них. Всё чаще слышится в его рассказах грустный, но тяжёлый и меткий упрёк людям за их неуменье жить, всё красивее светит в них сострадание к людям и — это главное! — звучит что-то простое, сильное, примиряющее всех и вся. Его скорбь о людях очеловечивает и сыщика и грабителя-лавочника, всех, кого она коснётся: «Понять — значит простить» — это давно сказано, и это сказано верно. Чехов понимает и говорит — простите! И ещё говорит — помогите! Помогите жить людям, помогайте друг другу!..
«Откуда мне знать, есть бог или нет? — говорит сыщик Цыбукин своей матери. — Нас с малолетства не тому учили, и младенец ещё мать сосёт, а его только одному и учат: кто к чему приставлен! Папаша ведь тоже в бога не верует… И старшина тоже не верует в бога, и писарь тоже, и дьячок тоже… А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так это для того, чтоб люди про них худо не говорили, и на тот случай, что, может, и в самом деле страшный суд будет…»
Бросьте камнем осуждения в этого сыщика, если можете! Разумеется, у вас не поднимется рука на Цыбукина, ибо и вы тоже ведь заглядываете в храмы ваших святынь лишь для того, чтоб «люди про вас худо не думали». Не сами ли вы называете святыни ваши «забытыми словами». А так как вам много дано — с вас нужно спросить не только больше, но и раньше, чем с человека без почвы, без веры в себя, в людей и в бога. Человек болит душой, но идёт делать фальшивые деньги, заглушая тревогу совести ссылкой на других, которые «тоже»… Разумеется, дрянь человек! Но как он может быть лучше? И куда его, если он будет лучше? В той обстановке, в которой он живёт, лучшие должны погибнуть. И остается сыщику Цыбукину сказать вам, судьям своим, словами плотника Костыля:
«Мы на этом свете жулики, а вы на том свете будете жулики».
Осветить так жизненное явление — это значит приложить к нему меру высшей справедливости. Чехову это доступно, и за это его глубоко человечный объективизм называли бездушным и холодным. Говорилось даже, что ему все равно, о чём ни писать — о цветах, о трупах, о детях, о лягушках, у него всё выходит одинаково хорошо и холодно [86]. Вообще, едва ли был и есть писатель, к которому в начале деятельности относились бы так несправедливо, как к Чехову.
Но дело не в этом.
Дело в том, что каждый новый рассказ Чехова всё усиливает одну глубоко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни.
«Жизнь долгая — будет ещё и хорошего и дурного, всего будет! Велика матушка Россия…»
В новом рассказе, трагическом, мрачном до ужаса, эта нота звучит сильнее, чем раньше, и будит в душе радость и за нас и за него, трубадура «хмурой» действительности, грустного певца о горе, страданиях «нудных» людей.
Глядя на жизнь и наше горе, Чехов, сначала смущённый неурядицей и хаосом нашего бытия, стонал и вздыхал с нами; ныне, поднявшись выше, овладев своими впечатлениями, он, как огромный рефлектор, собрал в себя все лучи её, все краски, взвесил всё дурное и хорошее в сердце своём и говорит:
«Жизнь долгая — будет ещё и хорошего и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! Я во всей России был и всё в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал; соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад, в Россию, пешком шли, и, помню, плывём мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку, а проезжий господин тут какой-то на пароме, — если помер, то царство ему небесное, — глядит на меня жалостно, слёзы текут: «Эх, говорит, хлеб твой чёрный, дни твои чёрные…» А домой приехал — как говорится, ни кола, ни двора; баба была, да в Сибири осталась — закопали. Так, в батраках живу. А что ж? Скажу тебе: потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая, ещё бы годочков двадцать прожил, значит, хорошего было больше… А велика матушка Россия!..»