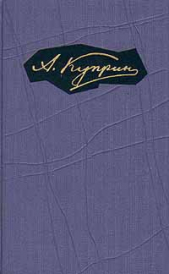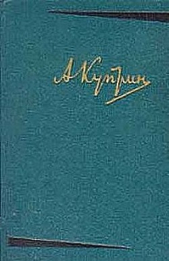Том 1. Произведения 1889-1896
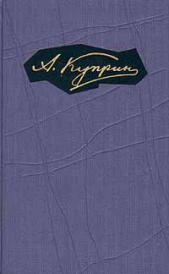
Том 1. Произведения 1889-1896 читать книгу онлайн
В первый том вошли произведения 1889–1896 гг.: "Последний дебют", "Впотьмах", "Лунной ночью", "Дознание", "Славянская душа", "Аль-Исса", "Куст сирени", "Негласная ревизия", "К славе", "Воробей", "В зверинце", "Игрушка", "Столетник", "Просительница", "Картина", "Страшная минута", "Мясо", "Без заглавия", "Ночлег", "Миллионер", "Лолли", "Пиратка", "Святая любовь", "Жизнь", "Локон", "Странный случай", "Бонза", "Ужас", "Полубог", "Наталья Давыдовна", "Собачье счастье", "На реке", "Блаженный", "Сказка", "Кляча", "Чужой хлеб", "Друзья", "Марианна".Предисловие к изданию Корнея Чуковского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Окончив завтрак, Борис посмотрел в свой календарь, где против каждого дня на белом листке он сам вписывал заранее, что в этот день надо предпринять. Сегодня день был не особенно занят: «Анатомический театр непременно», «Лекция Т.», «Вечером у В.К.». Первая отметка заставила Полубояринова брезгливо сморщить нос: посещение анатомического театра он давно уже откладывал со дня на день из какой-то странной нерешительности, так что в конце концов получил даже замечание от профессора. Зато последнее — «вечер у В. К.» — вызвало на губах Бориса довольную улыбку. Под этими инициалами подразумевалась жена одного из приятелей его отца. Борис недавно, всего месяца два тому назад сошелся с нею. Третьего дня он узнал, что муж ее сегодня должен отправиться в командировку, и таким образом целых двое суток были в распоряжении Бориса.
Утро было ясное, сверкающее. Снег, нападавший ночью и еще не изборожденный полозьями, лежал ровными пеленами, розовыми на солнце, синеватыми в тени. В воздухе стоял прозрачный морозный блеск, захватывавший при дыхании горло.
Борис шел по направлению к анатомическому театру большими гимнастическими шагами, засунув руки в карманы летнего пальто (обыкновение носить зимою летнее пальто он перенял у князя Белого, который в этом случае тоже подражал гвардейским офицерам). Его радовало и ясное утро, и чувство бодрости и здоровья во всех членах, и веселое, звонкое поскрипывание снега под ногами. В иных местах упругий снег так плотно слежался, что звенел под каблуком, точно чугунная плита. Порою Бориса обгоняли извозчичьи сани, визжа полозьями, но он не хотел садиться — на ходьбу Борис смотрел, как на физическое упражнение.
Но по мере приближения к анатомическому театру Борис почувствовал, что его мысли принимают неприятный оттенок. Конечно, пойти необходимо, нечего и говорить. И профессор на днях сказал, что, кажется, господин Полубояринов не посещает анатомического театра, и товарищи несколько раз спрашивали, отчего он не приходит? Могут подумать, что из трусости. Но эта пачкотня ужасно противна. Потом, наверное, целый день будет казаться, что руки пахнут. И, наконец, Борис питает решительное отвращение к покойникам. Тут не трусость, — это, конечно, было бы смешно, — нет, а просто чувство здорового, сильного человека при виде смерти и разрушения. Не будь желания отца, Борис непременно выбрал бы другой факультет, тем более что «наши» почти все на юридическом, кроме этого психопата Мельникова, помешавшегося на математике, и двух филологов, которые готовятся куда-то в китайские посланники. Отец держится того мнения, что медицинский факультет один только может приучить к постоянному и упорному труду. Странное мнение. Положим, ему простительно так думать, потому что он сам — медицинское светило.
Вдали показалось громадное серое здание анатомического театра. По дороге начали Борису попадаться студенты. Они шли туда же кучками по три, по четыре человека, с книгами под мышками. С некоторыми Борис был знаком и издали раскланялся. Один из студентов, Затонский, трудолюбивый и скромный молодой человек, отделился от своих товарищей и догнал Бориса.
— Здравствуйте, Полубояринов, — сказал Затонский, задыхаясь от быстрой ходьбы. — Вы знаете, что мы с вами в одной партии?
— Да, благодарю вас. — Борис пожал ему руку и, видя, что Затонский хочет уйти, задержал его и добавил: — Пожалуйста, пойдемте вместе. Вы знаете, я ведь в первый раз, так не согласитесь ли вы быть моим Вергилием?
— С удовольствием, — отвечал Затонский, широко улыбаясь. — Мне самому в первый-то раз жутко было.
Но Борис не хотел признаться в своей нерешительности.
— Мне не то чтобы жутко, — сказал он, — а просто я не знаю, куда там нужно идти, что делать, как держать инструмент.
— Э, пустяки! Вам и резать-то ничего не придется. Так, сначала только посмотрите, пока не привыкнете.
Они вместе вошли в шинельную и разделись. Борису казалось, что он уже отсюда слышит тяжелый, гнилой запах. Он вздрогнул от какого-то ощущения, похожего на холод, и — странно — после этого уже никак не мог согреться и все дрожал мелкой нервной дрожью.
— Что вы такой бледный, Полубояринов? — окликнул его студент, товарищ Бориса по гимназии. — Не выспались?
В шинельной было тесно и шумно. Одни приходили, другие уходили; дверь поминутно открывалась и закрывалась, впуская каждый раз резкую холодную струю воздуха. Между молодыми, свежими, словно девическими лицами мелькали серьезные, бородатые физиономии студентов последнего курса. Эти пользовались правом носить штатское платье, и молодежь относилась к ним с оттенком некоторого почтения.
Полубояринов и Затонский из шинельной прошли в длинную анатомическую залу, освещенную с обеих сторон высокими окнами; целый поток яркого света лился сверху из громадного стеклянного купола. Вдоль обеих стен и посредине, саженях в двух один от другого, стояли три длинных ряда высоких столов, сверху обитых цинком. Затонский, в качестве опытного человека, давал пояснения.
— Видите по диагоналям желобки? — говорил он, указывая на поверхность одного незанятого столика. — Это — для стока всяких жидкостей. А посредине отверстие и трубка, проведенная внутрь стола. Вот поглядите. — Затонский выдвинул сбоку стола ящик, обитый изнутри металлом, — В этот ящик все и стекает. Цинковые столы — самые лучшие. Мраморные, пожалуй, и чище, но зато скользят: руку упереть негде. А всего хуже работать на деревянных — те прямо насквозь пропитываются.
Они шли дальше. Запах становился все гуще, тяжелее и невыносимее. Борису казалось, что он весь пропитывается этим ужасным запахом; голова его слегка кружилась от непривычки. Вокруг одного стола столпились кучкой студенты, и в просветах между их черными сюртуками Борис с содроганием замечал желтое оголенное тело. Он подошел ближе. На столе лицом вниз, весь голый и — что показалось всего ужаснее Борису — без подстилки («точно вещь какая», — подумал он) лежал плотный мужчина с синей шеей и приподнятыми плечами. Борису особенно бросились в глаза руки трупа, с грязными отекшими пальцами, из которых большие были загнуты внутрь, к ладони. Один из студентов, в переднике, ловкими движениями подрезывал кожу на спине. От разрезанного свежего трупа пахло сырой говядиной, как из двери мясной лавки.
Оглянувшись кругом, Полубояринов заметил, что почти все столы заняты. Вокруг двух столов студентов не было — и трупы лежали совсем на виду, неподвижные, вытянутые, желтые, с высоко поднятыми грудными клетками. И Борис с невольной жадностью и с выражением брезгливого ужаса на лице приковывался глазами к трупам, мимо которых они с Затонским проходили. И опять его чуткое, повышенное обоняние различало новый оттенок запаха: от давнишних трупов, политых дезинфицирующими жидкостями, пахло жареным мясом — тем самым запахом, который до обеда дразнит аппетит, а после обеда так противен.
Голова его кружилась сильней и сильней. Его все более ужасала своей простотой та мысль, что вот эти люди, которые ходили, думали, говорили, надеялись, любили, точно так же как и он ходит, любит и думает, вдруг в какие-нибудь две-три минуты, в силу какого-то непостижимого, но, вероятно, очень простого закона, они стали тем, чем они теперь есть: холодными, отвратительными, гниющими предметами. Борис, благодаря своему тепличному воспитанию, в первый раз столкнулся так близко и так жестоко с ужасным лицом смерти и с мыслью о ее неизбежности. Конечно, он давно знал, что люди умирают, но знал это как-то неуверенно, поверхностно, теоретически, и теперь его привело в трепет то новое для него сознание, что и его тело, сильное и здоровое, когда-нибудь станет таким же холодным, страшным предметом, как и те, что лежат на цинковых столах. Когда прежде он видел мертвеца при сиянии свеч, в кадильном дыме, в парчовом гробу, — тогда ужас смерти смягчался торжественностью обряда и той надеждой на будущую жизнь, которую обещали слова печальных молитв. Теперь же Бориса в первый раз охватило мгновенно страшное значение смерти…