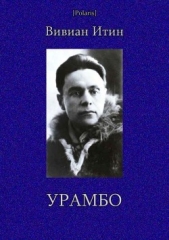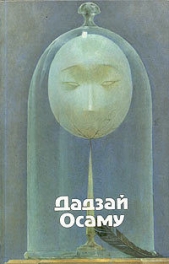Избранные произведения. Том 2

Избранные произведения. Том 2 читать книгу онлайн
Второй том Избранных произведений С. М. Городецкого составляют его прозаические сочинения: романы «Сады Семирамиды» и «Алый смерч», повести: «Сутуловское гнездовье», «Адам», «Черная шаль», рассказы, статьи, литературные портреты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Войска действительно проявляли нечеловеческое геройство. Но гнали их вперед совсем иные силы, чем те, которые руководили Буроклыковым и Веретеньевым.
В длинной цепи промежуточных звеньев начальные причины, двигавшие это наступление, превращались в свою противоположность. Англичанам надо было занять Багдад, чтоб он не попал в руки немцев. Это была борьба двух крупных хищников. Без помощи русских они сделать этого не могли. Русское правительство, торговавшее своей миллионной армией, было приказчиком союзников. Поэтому оно двинуло корпус генерала Арбатова против Исхан-бея, втайне рассчитывая, что его хозяева позволят, может быть, присоединить к владениям русской короны персидский Гилян. Когда этого оказалось мало, Николай Николаевич послал приказ генералу Буроклыкову взять Банэ. Буроклыкову было бы спокойней сидеть в Шерифхане, но мечта о втором Георгии сделала и его маленьким рычажком наступления. Генеральша Буроклыкова хотела приобрести лишний десяток настоящих керманшахских ковров, поэтому начальником наступавших отрядов был назначен Веретеньев. Веретеньеву во что бы то ни стало хотелось отличиться — это зависело от двух причин: достанет ли он ковры и возьмет ли Банэ. В его сознании обе эти задачи были одинаково важными. Ковры он «достал», а вот Банэ не давалось. Он не жалел живой человеческой силы, как не жалели ее все, кто ему приказывал. Сотни больных и раненых были пока несомненным результатом наступления. Но неудачи заставляли его все с большей и большей настойчивостью повторять свои приказы двигаться вперед, и, сам того не зная, он был наилучшим исполнителем желаний английского командования.
В этой длинной цепи честолюбивых помыслов, крупных и мелких хищнических аппетитов, приводных ремней наживы и рычагов тщеславия работающей машиной были вот эти таманцы и кубанцы, читинцы и нерчинцы и собранная со всех краев России пехота. В их сознании все неведомые им звенья длинной цепи причин наступления воплощались в этой ненавистной долговязой фигуре Веретеньева. Никакого Банэ брать им было не нужно, а о Багдаде они даже не слышали. Они потому отмораживали руки и ноги, сотнями падали в тифозном бреду и терпели неслыханные мученья от голода и голода, что этого хотел Веретеньев. И не для него, а для себя, чтоб только отогреться, чтоб только уйти из этой слепящей ледяной пустыни, где солнце выжигает глаза и не греет тела, они тоже хотели скорей взять Банэ. Эту простую человеческую жажду выхода из нестерпимых мук штаб Веретеньева ловко превращал в своих телеграммах в геройское воодушевление войск и заставлял служить английским планам.
Только безлошадные пластуны и рабочие, которых было много среди саперов, видели и понимали больше, чем казачья масса. Некоторые из них дружили с Цивесом, некоторые при отправке в тыл слышали речи Древкова. Для них не Веретеньев был причиной их страданий, а нечто большее. Работая как все для того, чтобы не погибнуть в этих снегах, они чувствовали себя, как в тюрьме или клетке, которую нужно взорвать; некоторые из них верили, что этот взрыв будет скоро, но никто не знал, когда именно, и как он начнется, и как его ускорить, как к нему приступить. Тревожная настороженность не покидала их. И хотя казалось, что из этой белой тишины, разрываемой только треском пулеметов, ничего не может родиться и что выход из этого снега только один — взять Банэ, — все же они в своем напряженном ожидании были, как пороховой погреб, к которому надо только поднести фитиль.
Цивес не раз говорил за эти дни Ослабову, до его отъезда с транспортом раненых, что нужно ему подняться наверх, на позиции. Занятый устройством больных, в нижних этажах дворца и в соседних домах, измученный тяжелыми условиями работы, без лекарств и термометров, без белья и марли, Ослабов отнекивался, ссылаясь на эту работу. Но так как его все время грызла мысль, что работа работой, а он все-таки боится посмотреть в глаза опасности, он в один из тихих дней, когда больных прибыло не так много, согласился ехать.
До Мираба они добрались верхом без особенных трудностей. Была только одна остановка, когда они встретили караван верблюдов. Он шел обратно, доставив фураж наверх. Исхудавшие, с вылезающей шерстью верблюды жалобно вытягивали свои головы и умными глазами смотрели на людей. Видно было, что они истощены до последней степени.
— Это все обреченные, — сказал Цивес, — смотрите, вот один уже упал, он не поднимется. И эти упадут по дороге, а которые дойдут до Саккиза, околеют там.
— Отчего же их не кормят? — наивно спросил Ослабов.
— Оттого, что они везут корм для лошадей. Чем же их кормить тут? Они работают на полное истощение. Это дьявольский расчет. Верблюд может не есть четырнадцать дней. Как раз столько времени нужно, чтобы доставить фураж наверх и спуститься обратно. Даже больше, потому что дойти до корма они не успевают.
Они подъехали к павшему верблюду.
Он еще дышал и при каждом выдохе ясно обрисовывались на боках у него ребра.
— Видите, как он смотрит. Чувствует, что умирает. А с людьми разве мы лучше поступаем? — вдруг вспыхнул Цивес. — Это же безумие брать сейчас перевал! Он умер! Видите, не дышит! — опять вернулся он к верблюду и закричал погонщикам: — Оттащите его с дороги. Проехать нельзя!
Четверо погонщиков потянули верблюда за ноги и за хвост. Цивес соскочил с лошади, и впятером они оттащили верблюда к краю пропасти, толкнули еще, и мертвый верблюд бесшумно исчез в снегах.
Оставив лошадей в Мираба, дальше пошли пешком по узкой, вырубленной в снегу тропинке. Снег слепил все больше, и сухо трещали выстрелы в разреженном воздухе. Небо казалось темно-голубым. На крутом повороте тропинка упиралась в небо, и на самом краю ее, рядом с синевой неба, ярко алело пятно крови, мучительно знакомое, как будто Ослабов уже видел где-то это алое пятно на голубом, как будто он шел сюда для того, чтобы еще раз увидеть этот контраст розового с голубым и понять его смысл. И, мгновенно вспомнив, как он любовался розами на голубом фоне, чадрой персиянки в саду, он почувствовал, что вся эта красота выжглась, исчезла и осталось только это пятно человеческой крови.
— Раненых несли, — сказал Цивес, — что же мы их не встретили?
Они повернули по тропинке и тотчас увидели еще и еще следы крови, все алее, все темнее, почти красные. Под глыбой снега, где меньше дуло, сидели двое, третий лежал на шинели. Все трое были тяжело ранены. Цивес тотчас наклонился к нему, быстро разворачивая сумку.
— Где это тебя хватило?
Солдат слабо улыбнулся.
— Здесь перевязывать нельзя, — сказал Ослабов, посмотрев рану, — нужно донести до Мираба.
— Сил нет, — сказал один из сидевших, — ведь сверху тащим.
— Придется мне идти с ними, — решил Ослабов.
Он пошел впереди; опираясь на него, с ним рядом пошел один раненый. Нести было тяжело, ноги скользили, второй раненый часто стонал, помогая нести лежавшего. Кровь капала на снег, прожигая его своим цветом и теплом. Добравшись до Мираба, Ослабов сделал перевязку. Рана была тяжелая. В Мираба нашлись еще больные. В ожидании новых боев, Веретеньев отдал приказ немедленно разгрузить Саккиз от раненых и больных. Всю обратную дорогу Ослабов не отходил от раненого, которого нес, чувствуя к нему особенную нежность из-за того, что он своими руками поднял его вблизи позиций и доставил в лазарет. Из Саккиза с большим транспортом больных и раненых Ослабов двинулся к южным пристаням озера, чтобы оттуда плыть к Шерифхане на баржах.
К вечеру Цивес добрался до своей палатки. Вход занесло снегом. Сбегав к саперам за лопатой, он узнал, что на заре будет предпринята новая попытка выбраться из снегов на ту сторону перевала. Напившись с саперами чаю, он вернулся к себе и заснул, закутавшись всем, что только у него было.
Безмолвие ледяной ночи сковало позиции. Казавшиеся внизу алмазными остриями, горы перевала здесь распластывались белоснежными скатами, склонами и площадками, срывающимися в бездонные пропасти, в глубине которых лежала еще тише, чем белизна на вершинах, глубокая бархатная синева. Белые, большие звезды испещряли все небо и казались отсюда еще крупнее, чем снизу. Калихан спал, и гулкое эхо замерло, прижавшись к его снежной груди.