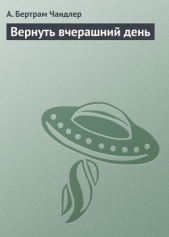Том 7. Мы и они

Том 7. Мы и они читать книгу онлайн
В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уверен ли сам г. Чулков, при его потрясающей самоуверенности тона, что он и мыслит логически, и поет хорошо и пленительно? Да, я думаю, уверен, как был уверен Иван Александрович Хлестаков, когда говорил это дрожащим чиновникам, что к нему точно скакали 30 тысяч курьеров, что он не генерал, а генералиссимус и что он «я… я… я…». Глубокое, искреннее утверждение своей личности. И хотя «пророчества» тут не было – вряд ли была и настоящая истерика. Г. Чулков говорит: «истерика – не пророчество». Святая правда, но ведь не всякая «не истерика» – пророчество. Господь да сохранит меня назвать вскрики Чулкова «пророчествами»; однако искренней истерики, болезненной, внушающей ужас и сожаление, истерики человека «одержимого бесом» – я у г. Чулкова тоже не могу, по совести, усмотреть. Нет, именно экстаз и упоение Ивана Александровича; в эту меру истерика, в эту меру и своя искренность.
Времена изменяют вечные типики лишь извне. Уж, конечно, теперешний Иван Александрович не придет больше в экстаз от мысли, что он «генерал» и у него 30 тысяч курьеров. Теперь ему, для того же самого упоения, необходима, хотя бы мгновенная, уверенность, что он пророк и поэт (музыкант), открывающий новую истину об «утверждении личности» и о «неприятии мира», истину, звенящую (кажется ему) и прекрасно, и жупельно: «мистический – анархизм!». Для современной купчихи и для современного городничего это будет достаточно фраппантно… Или не будет?
Вот вопрос. Ведь купчиха действительно испугалась жупела, чиновники действительно поверили, что Иван Александрович генералиссимус. Но есть неудачники на этом поприще. Чуть-чуть отстанешь от времени – глядь, и чиновники даже слушают без внимания, и купчиха не пугается, так что и экстаз разыгрывается в пустоте.
Кажется мне, что г. Георгий Чулков именно из таких Иванов Александровичей – неудачников; печально, по зато дает надежду, что неудавшиеся опыты экстаза (тоже своего рода мистические опыты) – приведут его к благоразумию и скромности. Он станет вдумчивее и добросовестнее, станет пристальнее читать книги, прямо относящиеся к его прямому, скромному общественному делу (г. Георгий Чулков – всем существом своим – социалист и даже социал-демократ), и в будущих своих писаниях, конечно, поостережется бесплодно оскорблять – и своих «товарищей», и анархистов, и мистиков, и логику, и историю, и здравый смысл, хотя бы утверждением, что в «грядущем социальном строе общества», к которому «стремятся анархисты», «восстанет Человек – Мессия», который всех (один, – уж не самодержец ли?) наконец куда-то и приведет.
Трихина *
Перевал. Журнал свободной мысли. Год издания первый, №№ 1–6.
Есть явления – в жизни, как и в литературе, – встретясь с которыми решительно не знаешь, что делать. Говорить серьезно – возможности нет. Пройти в безмолвии, отвернуться – жаль себя: потеряешь веселый час. А смеяться – тоже иногда жаль и совестно: ведь ужасно жаль и совестно смеяться над слишком явным уродством человека, слишком заметным, неоспорным. Впрочем – мы не смеемся над убожеством человека, уважая человека, – то, что есть в нем, помимо его уродства. Дела же людей – могут быть сплошь убожествами. И если они смешны – как не улыбнуться попутно? Убожество – неисцелимо. Улыбка – для него в высшей степени бесполезна. Но, право, только бесполезное и приятно. Громить, негодовать, бранить – бывает или полезно, или вредно, – но всегда всем неприятно. А тихая улыбка – она только бесполезна и притом веселит душу.
Ну, посмотрите: стоит ли тревожить себя и других, негодуя хотя бы на такое «литературное» явление, как новый московский журнал (шесть номеров его вышло) «Перевал»? А улыбнуться над ним, в свободную минуту, стоит. И не грех, потому что не над людьми смеемся, а над собранием убожеств. Горб, ноздря навыворот, флюс, вихор, бородавка – и вот из всех этих бородавок, флюсов и ноздрей получается дикое и пресмешное целое – «Перевал». Флюсы и бородавки, конечно, лишь мысленные и чувственные, по от этого они не менее явны. Выставляются, действительно, с большой свободой; «Перевал» вполне может назваться журналом если не «свободной мысли», то… «свободных мыслей» – вот этакого странного сорта, все одного и того же.
Я не мог пристально следить за развитием журнала. Кажется, оно не идет без запинок. Уже там кто-то на кого-то насплетничал, кто-то кого-то изобличил; ну да это – дела – семейные, дела московские; нам не важно. Главное, – направление выдержано изумительно: всякий сотрудник несет туда непременно свое убожество. Не будь «Перевал» – иной, может, так и умер бы, и мы бы не узнали, что в нем таилась та или другая смешноватая и стыдненькая мысль. Не было специального для нас места. А явился «Перевал», – и мысль воплотилась и запечатлелась. Мы бы никогда не узнали, что «отныне дорога Осипа Дымова вольно и светло залегает в будущее», что поэтесса Вилькина «войдет в Пантеон поэзии», что юный Городецкий пишет прозой, как гимназист второго класса, гордый полученными пятерками, и что притом он очень недоволен Кондратьевым, который плохо его похвалил. Мы не узнали бы, что Вячеслав Иванов не любит, когда кто-нибудь сплетничает и всегда протестует, – и наконец мы не узнали бы самой важной вещи, которую «Перевал» сразу же нам объявил, – что необходимо соединить эстетику с общественностью, а революцию с декадентством и что это он, «Перевал», сделает, кушанье изготовит и подаст.
Правда, мне тогда же подумалось, что для изготовления даже и не такого, а самого простого кушанья, ну хотя бы картофеля с маслом, необходимо иметь картофель и масло. Я уж не ждал кушанья с первого номера. Я готов был примириться с существованием припасов в сыром виде. Мало того: даже если б вначале хоть один картофель был или одно масло. Но что же это? Вот шестой номер, а я еще не видел ни одной картофелины и ни кусочка масла. Капал какой-то маргарин в виде революционных стишков и застывал жирными пятнами. Картофелем же и не пахло. В смысле эстетики – давались какие-то повестушки самого «развращенного вида», – ибо не развращенность ли кормит нас до чертиков надоевшим, приказчичьим «декадентством»? Ежели этакую «эстетику» совокуплять с революцией, то уж надо под стать ей и революцию найти. Русские революционеры свою не отдадут. Даже экспроприаторы из бродячих, и те не отдадут. Выгоды никакой, а лишние заботы.
Не все, впрочем, сотрудники «Перевала», открывая свое убожество, открываются нам тем самым с новой стороны. Есть некоторые, более цельные; отдав «Перевалу» убожество – они отдают себя почти без остатка. Вот, например, Георгий Чулков. Он не виноват, – по он везде смешон, не только в «Перевале». Он издает свои книги – и в каждой почти так же смешон, как в «Перевале». Это уж даже несчастие. Человек волнуется, горячится, наскоро вспоминает все хорошие слова, какие только слышал от умных людей, торопясь, сплетает из них свою собственную плетенку, надрывается, – а при этом смешон. И даже не так, чтобы очень, чтобы можно было серьезно похохотать, – пет; для легкой улыбки – комичен только. Порою хочется сказать ему, как хотелось тургеневской Бизюкиной: «Чего ты? Голодна? Или тебе холодно? Что ты пружишься?» Чулков и вправду голоден: он непрерывно алчет славы. Или хоть славки, но непременно. Я думаю, ему и сны ночью снятся все такие, что вот, мол, и в Москве, и в Петербурге, и в театре Мейерхольда, и на средах Иванова шепчут: «Чулков… Чулков… Это Чулков первый о Нетленной Красоте сказал… И о новом небе и о новой земле он же, все ои»… Чулков давно решил, что его цель оправдывает все средства. Это бы еще ничего, пусть цель оправдывает средства, но чтобы уж все – я не могу согласиться. Никакая цель не оправдывает негодных средств. А Чулков покушается на славу именно с негодными средствами. Постоянно возбуждая улыбку – невозможно ничего добиться. Уж лучше бы он возбуждал негодование!
Повторяю, человек не виноват, что он смешон. Это только несчастие. Сам Чулков, в самоощущении, не несчастлив, а счастлив. Он верит, что будет слава, что вот, она уже при дверях. Он так и умрет, надеясь, – и ничего не слышит и никого не видит. Что ж, – это неплохо, совсем неплохо «ждать и не дождаться»… Встречные будут смеяться, а Чулков будет гордиться, – так время и пройдет. Я только боюсь, что жизнь каким-нибудь толчком грубо выбросит его из мира мечтаний. А тогда уж поздно будет с ним разговаривать. Поздно объяснять ему, что одно из условий достижения «славы» – скромность, а другое – нежелание славы. Она приходит лишь попутно, лишь к тому, кто ею не занят. Это все самые примитивные вещи. Но, пожалуй, и теперь уж поздно к ним вернуться. Печать «смешного», самая горестная из печатей, уже успела лечь на Чулкова, на все, что он делает, пишет, издает. И даже если б он, опомнившись, снял с себя все эти чужие бубенцы «нетленных красот», «соборных оргиазмов» с «неприятиями мира» и т. д., и – не то, что опоясался вервием и пошел странствовать, о, это слишком не для него! – а просто поступил бы в контроль или стал бы тихо переводить социал-демократические брошюрки, – все-таки, я думаю, зловредная печать смеха с него не изгладилась бы сразу, долго бы не изгладилась. Уж слишком он привык сидеть на чужом месте… А в этом то и секрет, почему человек смешон. Контрольный чиновник не смешон: он почтенен, когда сидит за своим столом; а заставьте его устраивать «театр Диониса», рассуждать о «христианстве» или писать статьи о каком-то «соборном индивидуализме» – вы увидите, что будет. Он вам таких наплетет «художников, запечатлевших солнце в мраморе», что станет не только смешно, но и жалко плетущего. Чулков желает быть в числе «избранных». Для этого он, во-первых, сам себя все время «избирает», а, во-вторых, изо всех сил пригораживается к тем, кто, по его соображениям, несомненные избранники. Принюхавшись к воздуху, он, может быть, чересчур поспешно, заключил, что сильнее всего тянет «соборным индивидуализмом». И вот он уже свысока третирует Брюсова за то, что у него нет никакого соборного индивидуализма, ни индивидуальной соборности… и еще чего? Не стоит разбираться. Высыпан весь горох давно обычных слов известного круга, – они так надоели и так трещат, что повторять их, выписывая, совестно. Брюсов, по мнению Чулкова, уже для него не годится; а вот над Блоком он так надрывается, что за Блока страшно. Блока Чулков прямо износил, истер. По поводу одного «Балаганчика», этой милой, не новой и никакого ни для кого не имеющей значения вещицы, – Чулков до сих пор высыпает, раз за разом, свой горох. В «Перевале» сызнова только что высыпал. Блок – «избранник», около Блока полезно сыпать, думает Чулков.