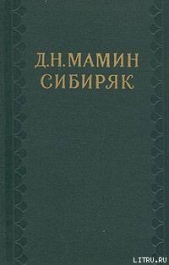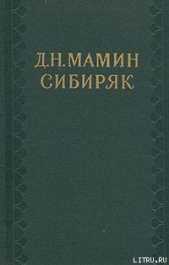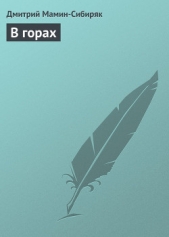Том 1. Рассказы и очерки 1881-1884
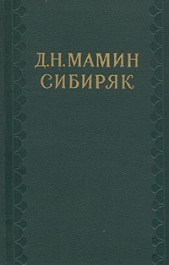
Том 1. Рассказы и очерки 1881-1884 читать книгу онлайн
Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.
В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», «В камнях», «На рубеже Азии», «Все мы хлеб едим…», «В горах» и «Золотая ночь».
Вступительные статьи Ф. Гладкова и А. Груздева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Меркулыч сильно изменился, сделался задумчив и рассеян; приходя к нему, я часто заставал его в таинственных беседах с Лапой, конечно, когда Луковны не было дома. Странное поведение Меркулыча скоро объяснилось: однажды Луковна явилась к нам и о чем-то очень долго и очень тихо разговаривала в гостиной сначала с отцом, а потом с матерью; когда она ушла, отец проговорил:
— Что же, — устрой, господи, на пользу; только нужно прежде посоветоваться с Сергеем Павлычем, что он скажет на это.
— По-моему, и писать не о чем, — отвечала мать: — разве так написать, для формы… Чего тут разбирать, дело самое подходящее, а для Лапы такого жениха днем с огнем поискать. Меркулыч человек обстоятельный; жалованье маловато, конечно, да Лапе-то жить не с жалованьем, а с человеком.
— Все-таки надо написать Сергею Павлычу и посоветоваться с ним, а то, пожалуй, еще обидится. Я напишу ему.
Отец долго сочинял письмо петербургскому доктору, несколько раз переписывал его, поправлял, читал матери и Луковне, наконец, оно было отослано в Петербург вместе с фотографией Меркулыча, и настал длинный срок самого мучительного ожидания, а Меркулыч и Лапа числились как жених и невеста, искали уединенных разговоров, перекидывались таинственными улыбками, и взглядами, и полусловами, как это прилично жениху и невесте.
О той жизни, какую мы вели с Меркулычем раньше, конечно, не могло быть и речи; я отлично понимал, что Лапа отняла у меня Меркулыча, но отнесся к этому довольно равнодушно и даже холодно, потому что нужно было серьезно готовиться к поступлению в духовное училище и целые дни напролет зубрить латинские и греческие спряжения; мысль быть доктором произвела во мне решительный перелом, и я твердыми шагами шел к своей заветной цели и настолько увлекался своим будущим, что даже не обратил надлежащего внимания на такие выдающиеся факты, как получение разрешительного письма доктора на свадьбу Лапы и затем на самую церемонию этого торжественного события, в котором я принимал участие в качестве шафера со стороны невесты. Как сквозь сон, помню целый ряд церемоний, которые происходили теперь в избушке Луковны: рукобитье, обручение, девичники — все это для меня казалось скучной церемонией; зато мои сестры жили самой лихорадочной жизнью, работая вместе с другими девушками-подругами в избушке Луковны над приданым невесты. Полосы холста, штуки ситца, полотно, какие-то цветные материи, дешевые ленты, кружева, песни с утра до ночи — все это мешалось в моей голове самым странным образом с латинскими спряжениями, катехизисом Филарета и тому подобными хитростями-мудростями бурсацкой науки, которая ожидала меня. Самая выдающаяся роль на этой свадьбе выпала на долю добрейшего Января Якимыча, он целые дни хлопотал без устали, суетился, бегал и всем страшно мешал. Расходившийся старичок помогал даже кроить, шил вместе с подругами невесты и тоненьким дребезжащим голоском пел с ними песни. В день свадьбы после «венца» Январь Якимыч, поздравляя молодых, выпил несколько рюмок лиссабонского и по непривычке к вину сразу захмелел, что послужило началом целому ряду презабавных сцен: он пел петухом, показывал, как пьет воду курица, и каким-то бабьим голосом выкрикивал: «Слава тебе, господи!.. Слава тебе, господи!.. Устрой, господи, на пользу… Родимые мои! Олимпиада Павловна… Иван Меркулыч… Слава тебе, господи!..»
Итак, Меркулыч женился и зажил с молодой женой в небольшом домике, который купил на последние гроши, какие были скоплены им в течение десяти лет; а Луковна осталась в своей избушке одна и ни за что не соглашалась жить у зятя, как последний ни упрашивал ее об этом. Это странное упорство старухи сильно удивило всех, в том числе и меня, и все решили, что Луковна думает переехать к сыну в Петербург, но сама она ни слова не говорила об этих намерениях и продолжала вести в своей избушке прежний образ жизни, изредка навещая дочь.
— Настоящая медведица, не хочет расставаться с своей берлогой, — шутил иногда отец.
— Мне немного надо, — говорила Луковна: — корочку хлеба — вот и сыта, а в своем углу все-таки спокойнее.
Наступило лето, брат Аполлон приехал на каникулы, и я стал заниматься под его руководством, потому что отец прихварывал и ему трудно было следить за моими занятиями. Эти каникулы были для нас очень тревожным временем. Аполлон кончил духовное училище и осенью должен был поступать в семинарию, где ему нужно было сдать вступительный экзамен.
Он сильно вырос и возмужал и старался держать себя совсем как большой, особенно с барышнями, говорил с ними загадками, старался смешить их и постоянно улыбался самодовольной улыбкой, немилосердно пощипывая верхнюю губу, на которой выступал черный пушок — гордость и слабость Аполлона. Мы иногда ходили к Меркулычу, но я находил эти посещения скучными, а Аполлон выбирал такое время, когда самого Меркулыча не было дома, и до слез смешил Лапу самыми смешными анекдотами. Мать хотя и косилась на такое поведение своего любимца, но молчала до поры, до времени, потому что видела в этом только развлечение для молодого человека. Наконец наступил конец июля, роковой экзамен был на носу, и Аполлоша храбро отправился в губернский город, где была духовная семинария. Я остался дома до половины августа, мне торопиться было некуда.
Две недели неизвестности, которые мы пережили во время экзаменов Аполлона, показались мне вечностью, и в нашем доме царило самое тяжелое уныние, борьба между страхом и надеждой. Погода стояла дождливая, и в длинные темные вечера происходили бесконечные разговоры, догадки и предположения, предметом которых был Аполлон. Как теперь помню этот несчастный августовский вечер, когда мы сидели всей семьей за чаем; дождь лил, как из ведра, порывистый ветер дергал ставни и дико завывал в трубе. Мать была особенно задумчива и грустна, Надя и Верочка сидели смирно, не смея шевельнуться, отец ходил по комнате, заложив руки в карманы казинетового подрясника; в это время послышался шум подъехавшей телеги и легкий стук в окно. Мы переглянулись, мать побледнела и выронила из рук чайную ложку, которая неприятно зазвенела о чайное блюдечко.
— Видно, с требой? — нерешительно проговорила мать; я видел, как ее рука дрожала на скатерти.
Отец молча подошел к окну, отворил форточку и как-то бессильно опустился на стул, точно у него подкосились ноги; я никогда не забуду выражения его лица, полного муки, гнева и отчаяния.
— Боже мой, боже… — тихо проговорил отец, хватаясь за голову.
Через минуту в комнату входил Аполлоша с своим чемоданчиком, весь мокрый, бледный, но с таким решительным выражением на лице, что я сразу не понял всей трагичности наступившего момента.
— Аполлоша, Апол… — крикнула мать и бросилась на шею к стоявшему с чемоданчиком в руке Аполлону.
— Обзатылили… — шептал отец, а потом так дико захохотал и с такой силой ударил кулаком по столу, что я отшатнулся от него. — Обзатылили… О, подлецы! — застонал отец, хватаясь за голову.
— Викентий Афанасьич… — тихо заговорила мать, переходя к отцу. — Викентий Афанасьич…
— Паша… Паша… — бессвязно бормотал отец, не удерживая больше слез, которые ручьем катились по его лицу, усам и бороде.
— Успокойся, Викентий Афанасьич…
— Пашенька… ведь это устроил тот! — с искаженным лицом закричал отец, порываясь из рук матери. — Это Амфилошкиных рук дело… Это он, он, он!..
Матери стоило больших усилий успокоить убитого отца; сестры плакали, брат по-прежнему стоял с чемоданом в руках и щипал верхнюю губу, я смотрел на всех с открытым ртом, и у меня только теперь сжалось детское сердце за всю эту немую сцену, свидетелем которой я был.
С отцом сделался истерический припадок — он то дико хохотал, то плакал; едва к утру нам удалось привести его домашними средствами в более спокойное состояние, и он, наконец, заснул тяжелым, тревожным сном; мы все не спали целую ночь. Аполлон сидел безмолвно в углу, облокотившись на стол и положив голову на руки, точно теперь это была для него совсем лишняя вещь, которая мешала ему; мать тихо плакала, сидя рядом с ним, я лежал в своей «канцелярии» и слушал, как о чем-то тихо шептались сестры, а потом Надя подошла к матери и проговорила: