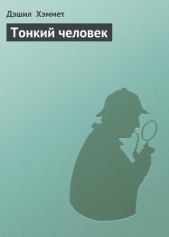Собрание сочинений. Том 1

Собрание сочинений. Том 1 читать книгу онлайн
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде. Сын священника. Учился на юрфаке МГУ в 1926-1929 годах. Впервые был арестован за распространение так называемого Завещания Ленина в 1929-м. Выйдя в 1932-м, был опять арестован в 1937-м и 17 лет пробыл на Колыме. Вернувшись, с 1957 года начал печатать стихи в «Юности», в «Москве». В его глазах была некая рассеянная безуминка неприсутствия. Наверно, потому что он в это время писал свои «Колымские рассказы» и даже на свободе продолжал оставаться там, на Колыме. Эти рассказы начали ходить из рук в руки на машинке года с 1966-го и вышли отдельным изданием в Лондоне в 1977 году. Шаламова заставили отречься от этого издания, и он написал нечто невразумительно-унизительное, как бы протестуя. Он умер в доме для престарелых, так и не увидев свою прозу напечатанной. (Она вышла в СССР лишь в 1987-м.) Это великая «Колымиада», показывающая гениальное умение людей сохранить лик своей души в мире лагерного обезличивания. Шаламов стал Пименом Гулага, но и добру внимая отнюдь неравнодушно, и написал ад изнутри, а вовсе не из белоснежной кельи.
В первый том Собрания сочинений Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982) вошли рассказы из трех сборников «Колымские рассказы», «Левый берег» и «Артист лопаты».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Каждый день Андреев ходил до обеда по камере взад-вперед — от окна до дверей. Чаще всего перед обедом.
— Это — старая привычка. Тысяча шагов в день — вот моя ежедневная норма. Тюремная порция. Два закона тюрьмы — поменьше лежать и поменьше есть. Арестант должен быть полуголодным, чтоб никакой тяжести на желудке не чувствовать.
— Александр Георгиевич, вы знали Савинкова?
— Да, знал. Я познакомился с ним за границей — на похоронах Гершуни.
Андрееву не надо было объяснять мне, кто такой Гершуни, — всех, кого он упоминал когда-либо, я знал по именам, представлял себе хорошо. И Андрееву это очень нравилось. Черные глаза его блестели, он оживлялся.
Эсеровская партия — партия трагической судьбы. Люди, которые за нее погибли, — и террористы, и пропагандисты — это были лучшие люди России, цвет русской интеллигенции, по своим нравственным качествам все эти люди, жертвовавшие и пожертвовавшие своими жизнями, были достойными преемниками героической «Народной воли», преемниками Желябова, Перовской, Михайлова, Кибальчича.
Эти люди перенесли огонь самых тяжелых репрессий — ведь жизнь террориста — полгода, по статистике Савинкова. Героически жили и героически умирали. Гершуни, Сазонов, Каляев, Спиридонова, Зильберберг — все эти личности не меньше, чем Фигнер или Морозов, Желябов или Перовская.
И в свержении самодержавия эсеровская партия сыграла великую роль. Но история не пошла по ее пути. И в этом была глубочайшая трагедия партии, ее людей.
Такие мысли приходили в голову часто.
Встреча с Андреевым укрепила меня в этих мыслях.
— Какой день вы считаете в своей жизни самым ярким?
— Мне даже и думать об ответе не надо — ответ давно готов. Этот день–12 марта 1917 года. Перед войной меня судили в Ташкенте. По 102-й статье. Шесть лет каторги. Каторжная тюрьма — Псков, Владимир. 12 марта 1917 года я вышел на свободу. Сегодня 12 марта 1937 года, и я — в тюрьме!
Перед нами двигались люди Бутырской тюрьмы, близкие и чем-то чуждые Андрееву, вызывающие в нем жалость, вражду, сострадание.
Аркадий Дзидзиевский, знаменитый Аркаша гражданской войны, гроза всяческих батек Украины.
Фамилия эта названа Вышинским в допросах пятаковского процесса. Значит, умер позднее, назван по имени будущий мертвец Аркадий Дзидзиевский. Полусумасшедший после Лубянки и Лефортова. Пухлыми стариковскими руками разглаживал носовые цветные платки на колене. Платочков было три. «Это мои дочери — Нина, Лида, Ната».
Вот Свешников — инженер из Химстроя, которому следователь сказал: вот твое фашистское место, сволочь. Железнодорожный чин — Гудков: «У меня были пластинки с речами Троцкого, а жена — сообщила…» Вася Жаворонков: «Меня преподаватель на политкружке спрашивает — а если бы Советской власти не было, где бы ты, Жаворонков, работал?» — «Да так же и работал бы, в депе, как и сейчас…»
Еще один машинист — представитель московского центра «анекдотистов» (ей-богу — не вру!). Друзья собирались по субботам семьями и рассказывали друг другу анекдоты. Пять лет, Колыма, смерть.
Миша Выгон — студент Института связи: «Обо всем, что я увидел в тюрьме, я написал товарищу Сталину». Три года. Миша Выгон выжил, безумно открещиваясь, отрекаясь от всех своих бывших товарищей, пережил расстрелы, — сам стал начальником смены на том же прииске «Партизан», где погибли, где уничтожены все Мишины товарищи.
Синюков, завотделом кадров Московского комитета партии: сегодня написал заявление: «Льщу себя надеждой, что у Советской власти есть законы». Льщу!
Костя и Ника, пятнадцатилетние московские школьники, игравшие в камере в футбол мячом, сшитым из тряпок, — террористы, убившие Ханджяна. Много после узнал я, что Ханджяна застрелил Берия в собственном кабинете. А дети, которые обвинялись в этом убийстве, — Костя и Ника — погибли на Колыме в 1938 году, погибли, хотя и работать-то их не заставляли, — погибли просто от холода.
Капитан Шнайдер из Коминтерна. Присяжный оратор, веселый человек, показывает фокусы на камерных концертах.
Леня-злоумышленник, отвинтивший гайки на железнодорожном полотне, житель Тумского района Московской области.
Фальковский, чье преступление квалифицировано как 58–10, агитация; материал — письма Фальковского к невесте и письма ее — жениху. Переписка предполагает двух и более человек. Значит, 58, пункт 11 — организация — много отяжеляющий дело.
Александр Георгиевич сказал тихо: «Здесь есть только мученики. Здесь нет героев».
— На одном моем «деле» есть резолюция Николая Второго. Военный министр докладывал царю об ограблении миноносца в Севастополе. Нам нужно было оружие, и мы взяли его с военного корабля. Царь написал на полях доклада: «Скверное дело».
Я начал гимназистом, в Одессе. Первое задание — бросил бомбу в театре. Это была вонючая бомба, безопасная. Экзамен, так сказать, сдавал. А потом пошло всерьез, больше. Я не пошел в пропаганду. Все эти кружки, беседы — очень трудно увидеть, ощутить конечный результат. Я пошел в террор. По крайней мере, раз — и квас!
Я был генеральным секретарем общества политкаторжан, пока это общество не распустили.
Огромная черная фигура метнулась к окну и, ухватив тюремную решетку, завыла. Эпилептик Алексеев, медведеобразный, голубоглазый, бывший чекист, тряс решетку и дико кричал: «На волю! На волю!» — и сполз с решетки в припадке. Над эпилептиком наклонились люди. Кто хватал руки, голову, ноги Алексеева.
И Александр Георгиевич сказал, показывая на эпилептика: «Первый чекист».
— Следователь у меня мальчик, вот несчастье. Ничего не знает о революционерах, и эсеры для него — вроде мастодонтов. Кричит только: сознавайтесь! Подумайте!
Я говорю ему: «Вы знаете, что такое эсеры?» — «Ну?» — «Если я вам говорю, что не делал, — значит, я не делал. А если я хочу вам солгать — никакие угрозы не изменят моего решения. Хотя бы немножко вам бы надо знать историю…»
Разговор был после допроса, но не было заметно по рассказу, что Андреев волнуется.
— Нет, он на меня не кричит. Я слишком стар. Он говорит только «подумайте». И мы сидим. Часами. Потом я подписываю протокол, и расстаемся до завтра.
Я придумал способ не скучать во время допросов. Я считаю узоры на стене. Стена оклеена обоями. Тысяча четыреста шестьдесят два одинаковых рисунка. Вот обследование сегодняшней стены. Выключаю внимание. Репрессии были и будут. Пока существует государство.
Опыт, героический опыт политкаторжанина не нужен был, казалось, для новой жизни, которая шла новой дорогой. И вдруг оказалось, что дорога вовсе не новая, что все нужно: и воспоминания о Гершуни, и поведение на допросах, и уменье считать узоры обоев на стене во время допроса. И героические тени своих товарищей, давно умерших на царской каторге, на виселице.
Андреев был оживлен, приподнят не тем нервным возбуждением, которое бывает почти у всех, попавших в тюрьму. Следственные ведь и смеются чаще, чем надо, по всяким пустяковым поводам. Смех этот, молодцеватость — защитная реакция арестанта, особенно на людях.
Оживление Андреева было другого рода. Это было как бы внутреннее удовлетворение тем, что он снова встал в ту же позицию, которую занимал всю свою жизнь и которая была ему дорога — и, казалось, — уходила в историю. Оказывается, нет, он еще нужен был времени.
Андреева не занимает истинность или ложность обвинений. Он знал, что такое массовые репрессии, и ничему не удивлялся.
В камере жил Ленька, семнадцатилетний юноша из глухой деревушки Тумского района Московской области. Неграмотный, он считал, что Бутырская тюрьма для него — величайшее счастье — кормят «от пуза», а люди какие хорошие! Ленька узнал за полгода следствия больше сведений, чем за всю свою прошлую жизнь. Ведь в камере каждый день читались лекции, и хоть тюремная память плохо усваивает слышанное, читанное, — все же в Ленькин мозг врезалось много нового, важного. Собственное «дело» Леньку не заботило. Он был обвинен в том же самом, что и чеховский злоумышленник, — в 1937 году он отвинчивал гайки на грузила с рельсов железной дороги. Это была явная пятьдесят восемь — семь — вредительство. Но у Леньки была еще и пятьдесят восемь — восемь — террор!