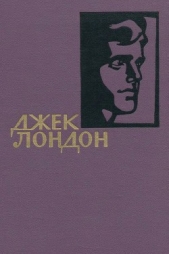Том 4. Повести и рассказы, статьи 1844-1854
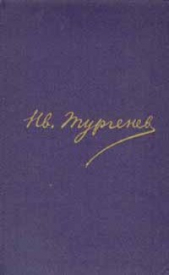
Том 4. Повести и рассказы, статьи 1844-1854 читать книгу онлайн
В четвертый том вошли повести и рассказы, статьи и рецензии и незавершенное произведение И.С. ТургеневаПовести и рассказы 1844-1854гг.: "Андрей Колосов", "Бретёр", "Три портрета", "Жид", "Петушков", "Дневник лишнего человека", "Три встречи", "Муму", "Постоялый двор", "Два приятеля", "Затишье".Статьи и рецензии 1850-1854: " Несколько слов об опере Мейербера «Пророк», "Поэтические эскизы. Альманах стихотворений, изданный Я.М. Позняковым и А.П. Пономаревым", "Племянница. Роман, соч. Евгении Тур. 4 части, Москва, 1851", "Несколько слов о новой комедии г. Островского «Бедная невеста»,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Постояльцы с ним не заговаривали, да и он сам не любил тратить попусту слова. «Мне ваши деньги нужны, а вам моя харчь, — толковал он, словно отрывая каждое слово, — не детей нам с вами крестить; проезжий поел, покормил, не засиживайся. А устал, так спи, не болтай». Работников держал он рослых и здоровых, но смирных и повадливых; они его очень боялись. Он в рот не брал хмельного, а им выдавал в великие праздники по гривеннику на водку; в другие дни они не смели пить. Люди, подобные Науму, скоро богатеют… но до блестящего положения, в котором он находился — а его считали в сорока или пятидесяти тысячах, — Наум Иванов дошел не прямым путем…
Лет за двадцать до того времени, к которому мы отнесли начало нашего рассказа, уже существовал на том же месте большой дороги постоялый двор. Правда, на нем не было темно-красной тесовой крыши, которая придавала дому Наума Иванова вид дворянской усадьбы; и строением был он победней, и на дворе навесы имел соломенные, а вместо бревенчатых стен — плетеные; не отличался он также трехугольным греческим фронтоном на точеных столбиках; но всё же он был постоялый двор хоть куда — поместительный, прочный, теплый — и проезжие охотно его посещали. Хозяин его в то время был не Наум Иванов, а некто Аким Семенов, крестьянин соседней помещицы, Лизаветы Прохоровны Кунце — штаб-офицерши. Этот Аким был смышленый и тороватый мужик * , который в молодых еще летах, отправившись в извоз с двумя плохими лошадками, воротился через год с тремя порядочными, да с тех пор почти всю жизнь пространствовал по большим дорогам, ходил в Казань и Одессу, в Оренбург и в Варшаву, и за границу, в «Липецк» [23], и ходил уж под конец с двумя тройками крупных и сильных жеребцов, запряженных в две громадные телеги. Надоело ему, что ли, его бездомовное, скитальческое житье, захотелось ли ему завестись семейством (в одну из его отлучек умерла у него жена; дети, которые были, тоже померли), только он решился, наконец, бросить свое прежнее ремесло и завести постоялый двор. С позволения своей барыни основался он на большой дороге, купил на ее имя полдесятины земли и построил на ней постоялый двор. Дело пошло на лад. Денег у него на обзаведение было слишком довольно; опытность, приобретенная им в течение долговременных странствований по всем концам России, послужила ему в великую пользу; он знал, чем угодить проезжим, особенно прежней своей братье, троечным извозчикам, из которых со многими он был знаком лично и которыми особенно дорожат содержатели постоялых дворов: так много едят и потребляют эти люди на себя и на своих могучих лошадей. Акимов двор стал известен на сотни верст вокруг… К нему даже охотнее заезжали, чем к сменившему его впоследствии Науму, хотя Аким далеко не мог сравняться с Наумом в уменье хозяйничать. У Акима всё было больше на старинную ногу, тепло, но не совсем чисто; и овес у него попадался легкий или подмоченный, и кушанье-то варилось с грехом пополам; у него иногда и такую снедь подавали на стол, что лучше бы ей совсем в печи оставаться, и не то, чтоб он на харчи скупился, а так — баба недосмотрит. Зато он и с цены готов был сбавить, и в долг, пожалуй, не отказывался поверить, словом — хороший был человек, ласковый хозяин. На разговоры, на угощенье он тоже был податлив; за самоваром иной час так разболтается, что уши развесишь, особенно как станет рассказывать про Питер, про степи черкасские * или вот еще про заморскую сторону; ну, и выпить, разумеется, с хорошим человеком любил, только не до безобразия, а больше для общества — так о нем отзывались проезжие. Весьма благоволили к нему купцы и вообще все те люди, которых называют старозаветными, те люди, которые, не подпоясавшись, в дорогу не поедут, и в комнату не войдут, не перекрестившись, и не заговорят с человеком, не поздоровавшись с ним наперед. Уже одна наружность Акима располагала в его пользу: он был роста высокого, несколько худ, но очень строен, даже в зрелых летах; лицо имел длинное, благообразное и правильное, высокий и открытый лоб, нос прямой и тонкий и небольшие губы. Взгляд его карих навыкате глаз так и сиял приветливой кротостью, жидкие и мягкие волосы завивались в кольца около шеи; на макушке оставалось их немного. Звук Акимова голоса был очень приятен, хотя слаб; в молодости он отлично певал, но продолжительные путешествия на открытом воздухе, зимой, расстроили его грудь. Зато говорил он очень плавно и сладко. Когда он смеялся, у него около глаз располагались лучеобразные морщинки, чрезвычайно милые на вид, — только у добрых людей можно заметить такие морщинки. Движенья Акима были большею частью медленны и не лишены некоторой уверенности и важной учтивости, как у человека бывалого и много видевшего на своем веку.
Точно, всем бы хорош был Аким, или, как его называли в барском доме, куда он хаживал часто и уже непременно по воскресеньям, после обедни — Аким Семенович, — всем бы был он хорош, кабы не водилась за ним одна слабость, которая уже многих людей на земле погубила, а под конец сгубила и его самого, — слабость к женскому полу. Влюбчивость Акима доходила до крайности; сердце его никак не умело противиться женскому взгляду, он таял от него, как первый осенний снег от солнца… и порядочно уже пришлось ему поплатиться за свою излишнюю чувствительность.
В течение первого года после поселенья своего на большой дороге Аким так был занят постройкой двора, обзаведением хозяйства и всеми хлопотами, которые неразлучны с каждым новосельем, что ему решительно некогда было думать о женщинах, а если и приходили ему на ум какие-нибудь грешные мысли, так он их тотчас прогонял чтением разных священных книг, к которым питал великое уважение (грамоте он выучился еще с первой своей поездки), пением вполголоса псалмов или другим каким богобоязненным занятием. Притом же ему уже пошел тогда сорок шестой год — а в эти лета всякие страсти заметно утихают и стынут, и для женитьбы прошла пора. Аким сам начинал думать, что с него эта блажь, как он выражался, соскочила… да, видно, своей судьбы не минуешь.
Акимова помещица, Лизавета Прохоровна Кунце — штаб-офицерша, оставшаяся вдовой после супруга немецкого происхождения, была сама урожденка города Митавы, где она провела первые годы своего детства и где у ней оставалось очень многочисленное и бедное семейство, о котором она, впрочем, заботилась мало, особенно с тех пор, как один из ее братьев, армейский пехотный офицер, нечаянно заехал к ней в дом и на второй же день до того разбуянился, что чуть не прибил самой хозяйки, назвав ее притом: «Du, Lumpen-mamselle» [24], между тем как накануне сам величал ее ломаным русским языком: «Сестрица и благодетель». Лизавета Прохоровна почти безвыездно жила в своем хорошеньком, трудами супруга, бывшего архитектора, благоприобретенном именье; сама им управляла, и очень недурно управляла. Лизавета Прохоровна не упускала ни малейшей своей выгоды, из всего извлекала пользу для себя; и в этом, да еще в необыкновенном уменье тратить вместо гроша копейку сказалась ее немецкая природа; во всём другом она очень обрусела. Дворни у ней водилось значительное количество; особенно держала она много девок, которые, впрочем, ели хлеб не даром: с утра до вечера спины их не разгибались над работой. Она любила выезжать в карете, с ливрейными лакеями на запятках; любила, чтоб ей сплетничали и наушничали, и сама отлично сплетничала; любила взыскать человека своей милостью и вдруг поразить его опалой — словом, Лизавета Прохоровна вела себя уж точно как барыня. Акима она жаловала, оброк весьма значительный он платил ей исправно, — милостиво с ним заговаривала и даже, шутя, приглашала его к себе в гости… Но именно в господском доме ожидала Акима беда.
В числе горничных Лизаветы Прохоровны находилась одна девушка лет двадцати, сирота, по имени Дуняша. Она была недурна собой, стройна и ловка; черты ее, хотя неправильные, могли понравиться: свежий цвет кожи, густые белокурые волосы, живые серые глазки, маленький, круглый нос, румяные губы и особенно какое-то развязное, полунасмешливое, полувызывающее выражение лица — всё это было довольно мило в своем роде. Притом она, несмотря на свое сиротство, держала себя строго, почти надменно: она происходила от столбовых дворовых * ; ее покойный отец Арефий лет тридцать был ключником, а дед Степан служил камердинером у одного давно умершего барина, гвардии сержанта и князя. Одевалась она опрятно и щеголяла своими руками, которые действительно были чрезвычайно красивы. Дуняша показывала большое пренебрежение ко всем своим поклонникам, с самоуверенной улыбочкой выслушивала их любезности, и если и отвечала им, то большей частью одними восклицаниями, вроде: да! как же! стану я! вот еще!.. Эти восклицания у ней почти не сходили с языка. Дуняша провела около трех лет в Москве в ученье, где она приобрела те особенного рода ужимки и замашки, которыми отличаются горничные, побывавшие в столицах. О ней отзывались как о девушке с самолюбием (великая похвала в устах дворовых людей), которая хотя и видала виды, однако себя не уронила. Шила она тоже недурно, но за всем тем Лизавета Прохоровна к ней не слишком благоволила по милости главной горничной Кирилловны, женщины уже немолодой, пронырливой и хитрой. Кирилловна пользовалась большим влиянием на свою госпожу и очень искусно умела устранять соперниц.