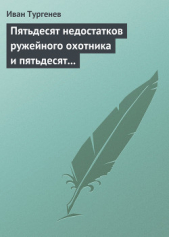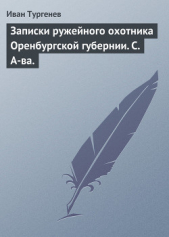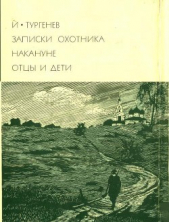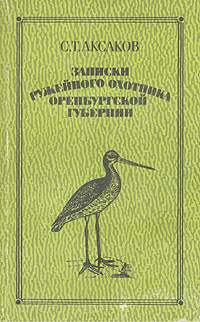Том 3. Записки охотника
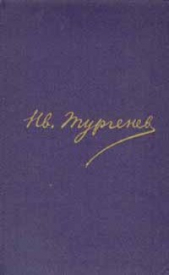
Том 3. Записки охотника читать книгу онлайн
«Записки охотника», появлявшиеся в печати отдельными рассказами и очерками на рубеже сороковых и пятидесятых годов и объединенные затем в книгу, составили первое по времени большое произведение Тургенева.
Настоящее издание «Записок охотника» подготовлено на основе изучения всех рукописных и печатных источников текста произведения, в том числе и черновых автографов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рассказчик помолчал.
— В одной трагедии Вольтера, — уныло продолжал он, — какой-то барин радуется тому, что дошел до крайней границы несчастья. * Хотя в судьбе моей нет ничего трагического, но я, признаюсь, изведал нечто в этом роде. Я узнал ядовитые восторги холодного отчаяния; я испытал, как сладко, в течение целого утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклинать день и час своего рождения, — я не мог смириться разом. Да и в самом деле, вы посудите: безденежье меня приковывало к ненавистной мне деревне; ни хозяйство, ни служба, ни литература — ничто ко мне не пристало; помещиков я чуждался, книги мне опротивели; для водянисто-пухлых и болезненно-чувствительных барышень, встряхивающих кудрями и лихорадочно твердящих слово «ж ызнь» * , — я не представлял ничего занимательного с тех пор, как перестал болтать и восторгаться; уединиться совершенно я не умел и не мог… Я стал, что вы думаете? я стал таскаться по соседям. Словно опьяненный презреньем к самому себе, я нарочно подвергался всяким мелочным унижениям. Меня обносили за столом, холодно и надменно встречали, наконец не замечали вовсе; мне не давали даже вмешиваться в общий разговор, и я сам, бывало, нарочно поддакивал из угла какому-нибудь глупейшему говоруну, который во время оно, в Москве, с восхищением облобызал бы прах ног моих, край моей шинели… Я даже не позволял самому себе думать, что я предаюсь горькому удовольствию иронии… Помилуйте, что за ирония в одиночку! Вот-с как я поступал несколько лет сряду и как поступаю еще до сих пор…
— Однако это ни на что не похоже, — проворчал из соседней комнаты заспанный голос г. Кантагрюхина, — какой там дурак вздумал ночью разговаривать?
Рассказчик проворно нырнул под одеяло и, робко выглядывая, погрозил мне пальцем.
— Тс… тс… — прошептал он — и, словно извиняясь и кланяясь в направлении кантагрюхинского голоса, почтительно промолвил: — Слушаю-с, слушаю-с, извините-с… Ему позволительно спать, ему следует спать, — продолжал он снова шёпотом, — ему должно набраться новых сил, ну хоть бы для того, чтобы с тем же удовольствием покушать завтра. Мы не имеем права его беспокоить. Притом же я, кажется, вам всё сказал, что хотел; вероятно, и вам хочется спать. Желаю вам доброй ночи.
Рассказчик с лихорадочной быстротой отвернулся и зарыл голову в подушки.
— Позвольте по крайней мере узнать, — спросил я, — с кем я имел удовольствие…
Он проворно поднял голову.
— Нет, ради бога, — прервал он меня, — не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек неоригинальный, и не заслуживаю особенного имени… А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку, так назовите… назовите меня Гамлетом Щигровского уезда * . Таких Гамлетов во всяком уезде много, но, может быть, вы с другими не сталкивались… Засим прощайте.
Он опять зарылся в свой пуховик, а на другое утро, когда пришли будить меня, его уж не было в комнате. Он уехал до зари.
Чертопханов и Недопюскин
В жаркий летний день возвращался я однажды с охоты на телеге; Ермолай дремал, сидя возле меня, и клевал носом. Заснувшие собаки подпрыгивали, словно мертвые, у нас под ногами. Кучер то и дело сгонял кнутом оводов с лошадей. Белая пыль легким облаком неслась вслед за телегой. Мы въехали в кусты. Дорога стала ухабистее, колеса начали задевать за сучья. Ермолай встрепенулся и глянул кругом… «Э! — заговорил он, — да здесь должны быть тетерева. Слеземте-ка». Мы остановились и вошли в «площадь». Собака моя наткнулась на выводок. Я выстрелил и начал было заряжать ружье, как вдруг позади меня поднялся громкий треск, и, раздвигая кусты руками, подъехал ко мне верховой. «А па-азвольте узнать, — заговорил он надменным голосом, — по какому праву вы здесь а-ахотитесь, мюлсвый сдарь?» Незнакомец говорил необыкновенно быстро, отрывочно и в нос. Я посмотрел ему в лицо: отроду не видал я ничего подобного. Вообразите себе, любезные читатели, маленького человека, белокурого, с красным вздернутым носиком и длиннейшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка с малиновым суконным верхом закрывала ему лоб по самые брови. Одет он был в желтый, истасканный архалук с черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всем швам; через плечо висел у него рог, за поясом торчал кинжал. Чахлая горбоносая рыжая лошадь металась под ним, как угорелая; две борзые собаки, худые и криволапые, тут же вертелись у ней под ногами. Лицо, взгляд, голос, каждое движенье, всё существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной, небывалой; его бледно-голубые, стеклянные глаза разбегались и косились, как у пьяного; он закидывал голову назад, надувал щеки, фыркал и вздрагивал всем телом, словно из избытка достоинства, — ни дать ни взять, как индейский петух. Он повторил свой вопрос.
— Я не знал, что здесь запрещено стрелять, — отвечал я.
— Вы здесь, милостивый государь, — продолжал он, — на моей земле.
— Извольте, я уйду.
— А па-азвольте узнать, — возразил он, — я с дворянином имею честь объясняться?
Я назвал себя.
— В таком случае извольте охотиться. Я сам дворянин и очень рад услужить дворянину… А зовут меня Чер-топ-хановым, Пантелеем.
Он нагнулся, гикнул, вытянул лошадь по шее; лошадь замотала головой, взвилась на дыбы, бросилась в сторону и отдавила одной собаке лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопханов закипел, зашипел, ударил лошадь кулаком по голове между ушами, быстрее молнии соскочил наземь, осмотрел лапу у собаки, поплевал на рану, пихнул ее ногою в бок, чтобы она не пищала, уцепился за холку и вдел ногу в стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвост и бросилась боком в кусты; он за ней на одной ноге вприпрыжку, однако наконец-таки попал в седло; как исступленный, завертел нагайкой, затрубил в рог и поскакал. Не успел я еще прийти в себя от неожиданного появления Чертопханова, как вдруг, почти безо всякого шуму, выехал из кустов толстенький человек лет сорока, на маленькой вороненькой лошаденке. Он остановился, снял с головы зеленый кожаный картуз и тоненьким и мягким голосом спросил меня, не видал ли я верхового на рыжей лошади? Я отвечал, что видел.
— В какую сторону они изволили поехать? — продолжал он тем же голосом и не надевая картуза.
— Туда-с.
— Покорнейше вас благодарю-с.
Он чмокнул губами, заболтал ногами по бокам лошаденки и поплелся рысцой — трюхи, трюхи, — по указанному направлению. Я посмотрел ему вслед, пока его рогатый картуз не скрылся за ветвями. Этот новый незнакомец наружностью нисколько не походил на своего предшественника. Лицо его, пухлое и круглое, как шар, выражало застенчивость, добродушие и кроткое смирение; нос, тоже пухлый и круглый, испещренный синими жилками, изобличал сластолюбца. На голове его спереди не оставалось ни одного волосика, сзади торчали жиденькие русые косицы; глазки, словно осокой прорезанные, ласково мигали; сладко улыбались красные и сочные губки. На нем был сюртук с стоячим воротником и медными пуговицами, весьма поношенный, но чистый; суконные его панталончики высока вздернулись; над желтыми оторочками сапогов виднелись жирненькие икры.
— Кто это? — спросил я Ермолая.
— Это? Недопюскин, Тихон Иваныч. У Чертопханова живет.
— Что он, бедный человек?
— Небогатый; да ведь и у Чертопханова-то гроша нет медного.
— Так зачем же он у него поселился?
— А, вишь, подружились. Друг без дружки никуда… Вот уж подлинно: куда конь с копытом, туда и рак с клешней…
Мы вышли из кустов; вдруг подле нас «затякали» две гончие * , и матерой беляк покатил по овсам, уже довольно высоким. Вслед за ним выскочили из опушки собаки, гончие и борзые, а вслед за собаками вылетел сам Чертопханов. Он не кричал, не травил, не атукал: он задыхался, захлебывался; из разинутого рта изредка вырывались отрывистые, бессмысленные звуки; он мчался, выпуча глаза, и бешено сек нагайкой несчастную лошадь. Борзые «приспели»… беляк присел, круто повернул назад и ринулся, мимо Ермолая, в кусты… Борзые пронеслись. «Бе-е-ги, бе-е-ги! — с усилием, словно косноязычный, залепетал замиравший охотник, — родимый, береги!» Ермолай выстрелил… раненый беляк покатился кубарем по гладкой и сухой траве, подпрыгнул кверху и жалобно закричал в зубах рассовавшегося пса. Гончие тотчас подвалились.