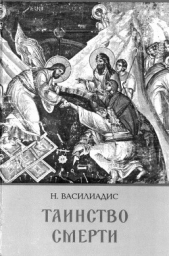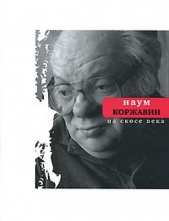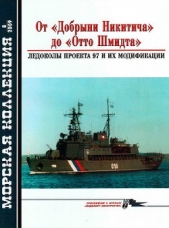Том 10. Последние желания

Том 10. Последние желания читать книгу онлайн
В настоящем томе, продолжающем Собрание сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), публикуется неизданная художественная проза. Читателям впервые представляются не вошедшие в книги Гиппиус повести, рассказы и очерки, опубликованные в журналах, газетах и альманахах в 1893–1916 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Они молча встали и пошли в темноте по дорожке. Хотя ночь была совсем черная и Нюра поднималась вверх с трудом, Володя не предложил ей руку.
– Все еще розами пахнет, – проговорила Нюра, когда они вышли наверх.
– Да. Это поздние, должно быть, – сказал Челищев. И прибавил, немного помолчав: – Совсем теплые ночи, хотя и сентябрьские.
– Внизу сыро было. Здесь теплее.
– Вам холодно?
Нюра не сразу ответила:
– Нет.
Они медленно и молча вышли за калитку сада, миновали двор. Ночь была черно-синяя, мрак такой густой, что его не разгоняли, а усиливали большие освещенные окна дома.
Они шли все тише, точно не желая прийти. Невидное дерево, нежная ива, вдруг коснулась низко опущенной ветвью лица Нюры. Она едва слышно вскрикнула от неожиданности и совсем остановилась. Володя обнял ее за плечи и притянул к себе. Через мгновение она почувствовала на своем лице щекочущие и жесткие завитки его бороды, и теплые губы прижались к ее губам.
Это произошло так быстро и так просто, что Нюра ни о чем не успела подумать. Без мыслей она в следующее мгновение входила в ярко освещенную столовую, где уже сидел за чаем Андрей Нилыч.
Свет резал ей глаза, и она закрыла их рукой.
– Ты одна? – спросил Андрей Нилыч. – А где же… Владимир Дмитриевич?
– Он… торопился… Не мог зайти, – проговорила Нюра монотонным голосом и прошла к себе.
Генерал сидел у себя наверху, около стола, и читал книгу Madame de Sevigne. Был час двенадцатый. В широко открытое окно глядела черная, совсем теплая сентябрьская ночь. Внизу слышны были еще голоса, на земле, под окном, лежал светлый круг от лампы на балконе, захватывая острые поникшие листья ирисов, которые давно отцвели. Листья в этом свете казались бледно-серыми.
На коленях генерала лежал толстый плед. Ревматизмы, несмотря на теплые, почти жаркие дни, стали что-то чаще мучить его, и он сегодня с трудом сходил в парк. Любимая и всегда успокаивающая его Madame de Sevigne не читалась сегодня: генерала тревожили заботы и мысли. Он часто поднимал глаза с освещенной страницы и рассеяно смотрел вперед.
Комната тонула в полумраке от низко спущенного зеленого абажура. Она была очень проста и невелика. Темная мебель, глубокое кожаное кресло и большой старинный шкап с книгами. Книги все были любимые генерала, большею частью французские. Он уважал, впрочем, из русских кое-кого, некоторые вещи Тургенева, Писемского. Любил Озерова, но находил, что он устарел. Он имел определенное мнение о Тютчеве, которое часто высказывал, всегда одинаковыми словами. Но все-таки французские книги преобладали, из хороших. Мюссе он в свою библиотеку не допускал, считал его мальчишкой, хотя и не отказывал в некотором таланте. Своих «французов» он вздумал было завести каждого в двух экземплярах, чтобы не возить их постоянно из Крыма в Москву и обратно; попробовал – и не мог; он привык к книге, к ее переплету, к бумаге, к шороху страницы, к согнутому уголку, к пятнышку на заглавном листе; и только что купленная книга была ему чужая, не друг, – и огорчала его долго. «Французы» четыре раза в год руками привычной Катерины укладывались в нарочно сделанные для них ящики – и ехали из Москвы в Ялту и обратно в Москву, где та же Катерина аккуратно и быстро складывала их в такой же точно шкап в просторном генеральском кабинете в его беленьком особнячке на Поварской. Через час после приезда генералу казалось, что он не двигался с места: те же пресс-папье лежали на громадном зеленом письменном столе, в спальне были те же щипчики, баночки и стаканчики, без которых он не мог обойтись – и все это было дело проворных рук бесшумно действующей Катерины. Ей не нужно было приказывать, не нужно звать: и теперь, генерал знал, что ровно без четверти двенадцать Катерина внесет ему питье с сахаром и лимоном, с серебряной ложечкой в стакане – и удалится.
Но была только половина двенадцатого. Голоса внизу замолкли, и круг света под окном исчез. Генерал опять отвел глаза от книги. Прямо перед ним, на столе, в бархатной рамке стоял бледный акварельный портрет – покойной генеральши; он всегда, и в Москве и в Ялте, стоял на том же месте письменного стола; стоял так давно, что генерал его совершенно не видел и не замечал, и подумать о нем он мог только если бы портрет вдруг пропал.
Мысли лениво-неясные, немного тревожили генерала. Он думал о своем нынешнем приезде в Крым, о Ваве, о ее «чувстве» к нему; он так мысленно и говорил «чувство», избегая слово «любовь», которое давало ему неловкость перед собою. Впрочем, и о «чувстве» он думал с удовольствием, совестливой гордостью и умилением. Вава ему нравилась и трогала его; он полузаметно отдавал себя ее заботам; а временами перед ее откровенным обожанием он терял всякое сознание пролетевших годов; он искренно забывал, что он не молод, она ему казалась девочкой; и когда-то пережитое, полузабытое, сладкое – он неожиданно переживал снова с особой, но не меньшей отрадой и волнением.
Он вспомнил, как на днях в парке он сказал, что скоро зима, скоро надо в Москву… Сказал машинально, не думая. И Вава вдруг тихо заплакала. Ему стало ее очень жалко, но и приятная теплота облила сердце. Он утешал ее, поцеловал обе руки. И опять она глядела на него детски счастливыми глазами, в которых сверкали слезы.
Жениться на Ваве генералу как-то сначала и в голову не приходило, то есть приходило – но очень смутно; зачем переменять, делать что-то, когда и так хорошо и отрадно. Пусть так и остается.
Но шло время; генерал все меньше думал о своих летах, все более естественным казалось ему не расставаться с Вавой. Да и другие соображения явились: он начал подумывать, не компрометирует ли он девушку? Какие-то старые, давно не употреблявшиеся, залежалые благородные понятия зашевелились в глубине души, проснулись и заговорили. Они были усталые, генерал отвык думать над этими вопросами, и теперь ему было не по себе. Но он заметил на столе только что присланные ему фотографии Ливадии; он обещал их Ваве. Ему захотелось написать ей записку, но было поздно. Они часто вечером обменивались так записками.
Вошла Катерина, неслышно ступая, и принесла питье. Генерал взглянул на нее мельком и отвел взор, думая, что она уходит. Но Катерина не ушла, а остановилась у двери – и это удивило генерала и заставило очнуться. Катерина встретила его недоумевающий взор и сказала, сжав тонкие губы:
– Ваше превосходительство, осмелюсь доложить вам: очень болею я и не имею сил нести службу. Если угодно будет вашему превосходительству отпустить меня…
Генерал не понял. И, взглянув еще более изумленными глазами, повторил ворчливо:
– Отпустить? Куда? Что такое?
– Совсем отпустить. Силы не те, не могу служить вашему превосходительству. Да и служба моя, может, не угодна вашему превосходительству…
Генерал рассердился.
– Это еще что? Ты, Катерина, пожалуйста, пустяков мне не говори. Служба твоя всегда одинакова. Ты вот мне морсу кизилового подай.
Катерина принесла морс, но, поставив его перед генералом, опять воинственно сказала:
– Нет, как угодно, а я не останусь. Берите себе другую. Я еще ни по чьей дудке не плясала. Мне на интриганство смотреть не приходится, уж лучше уйти, чтобы глаза не видали.
Генерал последних слов не расслышал. Но он немного поверил Катерине, не желая верить, и ему стало холодновато и скучно. Это что за возня? Да как же без Катерины? Вот уж пятнадцать лет она у него, он даже не помнит времени, когда ее не было. Она одна все знает и умеет. Он вдруг представил себе, что он идет в спальню, что перед кроватью нет полосканья, что подушки лежат по-иному. А книги? Как же без Катерины? Он почувствовал себя беспомощным, маленьким и больным.
– Ну, ну, – проговорил он. – Ступай. Я не люблю пустяков.
– Истинно говорю вашему превосходительству, – настаивала Катерина острым, как пила, голосом. – Не в моих силах. Служила, пока возможности силы были. Теперь, как такие перемены, и мало ли еще что будет, не вижу возможности.