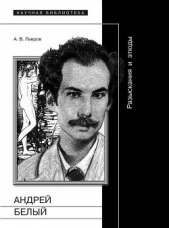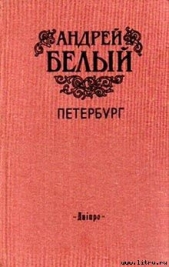Петербург. Стихотворения (Сборник)

Петербург. Стихотворения (Сборник) читать книгу онлайн
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».
Помимо «Петербурга» в состав книги вошли стихотворения А.Белого из сборников «Золото в лазури», «Пепел» и поэма «Первое свидание».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но вернемся к несчастному подпоручику.
Надо сказать о Сергее Сергеиче несколько оправдательных слов: вздох облегчения у Сергея Сергеича вырвался безотчетно, как безотчетны движенья самовольных утопленников перед погружением их в зеленую и холодную глубину. Сергей Сергеич Лихутин (не улыбайтесь!) совершенно серьезно намеревался покончить все свои счеты с землею, и намерение это он бы без всяких сомнений осуществил, если бы не гнилой потолок (в этом вините строителя дома); так что вздох облегчения относился не к личности Сергея Сергеича, а к животно-плотской и безличной его оболочке. Как бы то ни было, оболочка эта сидела на корточках и внимала всему (тысячам шорохов); дух же Сергея Сергеича из глубины оболочки обнаруживал полнейшее хладнокровие.
Во мгновение ока прояснились все мысли; во мгновение ока пред его сознаньем встала дилемма: как же быть теперь, как же быть? Револьверы где-то запрятаны; их отыскивать долго… Бритва? Бритвою – ууу! И невольно в нем все передернулось: начинать с бритвою опыт после только что бывшего первого… Нет: всего естественней растянуться здесь, на полу, предоставив судьбе все дальнейшее; да, но в этом естественном случае Софья Петровна (несомненно, она услышала стук) немедленно бросится, если не бросилась, к дворнику, протелефонят полиции, соберется толпа; под напором ее сломаются входные двери, и они нагрянут сюда; и, нагрянув, увидят, что он, подпоручик Лихутин, с необычным бритым лицом (Сергей Сергеич не подозревал, что он выглядит без усов таким идиотом) и с веревкой на шее тут расселся на корточках посреди кусков штукатурки.
Нет, нет, нет! Никогда до этого не дойдет подпоручик: честь мундира дороже ему жене данного слова. Остается одно: со стыдом открыть дверь, поскорей примириться с женою, Софьей Петровной, и дать правдоподобное объяснение беспорядку и штукатурке.
Быстро кинул он веревку под диван и позорнейшим образом побежал к входной двери, за которой теперь ничего не было слышно.
С тем же самым непроизвольным сопеньем он открыл переднюю дверь, нерешительно став на пороге; жгучий стыд его охватил (недоповесился!); и притихла в душе бушевавшая буря; точно он, сорвавшись с крюка, оборвал в себе все, бушевавшее только что: оборвался гнев на жену, оборвался гнев по поводу безобразного поведения Николая Аполлоновича. Ведь он сам совершил теперь небывалое, ни с чем несравнимое безобразие: думал повеситься – вместо ж этого вырвал крюк с потолка.
Мгновение… —
В комнату никто не вбежал: тем не менее там стояли (он видел); наконец, влетела Софья Петровна Лихутина; влетела и разрыдалась:
– «Что ж это? Что ж это? Почему темнота?»
А Сергей Сергеич конфузливо тупился.
– «Почему тут был шум и возня?»
Сергей Сергеич холодные пальчики ей конфузливо пожал в темноте.
– «Почему у вас руки все в мыле?.. Сергей Сергеевич, голубчик, да что это значит?»
– «Видишь ли, Сонюшка…»
Но она его прервала:
– «Почему вы хрипите?..»
– «Видишь ли, Сонюшка… я… простоял перед открытою форточкой (неосторожно, конечно)… Ну, так вот и охрип… Но дело не в этом…»
Он замялся.
– «Нет, не надо, не надо», – почти прокричал Сергей Сергеич Лихутин, отдернувши руку жены, собиравшейся открыть электричество, – «не сюда, не сейчас – в эту вот комнату».
И насильно он ее протащил в кабинетик.
В кабинетике явственно уже выделялись предметы; и мгновенье казалось, будто серая вереница из линий стульев и стен с чуть лежащими плоскостями теней и с бесконечностью бритвенных кое-как разброшенных принадлежностей, – только воздушное кружево, паутина; и сквозь эту тончайшую паутину проступало стыдливо и нежно в окошке рассветное небо. Лицо Сергея Сергеича выступало неясно; когда же Софья Петровна к лицу приникла вплотную, то она увидела пред собою… Нет, это – неописуемо: увидела пред собой совершенно синее лицо неизвестного идиота; и это лицо виновато потупилось.
– «Что вы сделали? Вы обрились? Да вы просто какой-то дурак!..»
– «Видишь, Сонюшка», – прохрипел ей в уши испуганный его шепот, – «тут есть одно обстоятельство…»
Но она не слушала мужа и с безотчетной тревогою бросилась осматривать комнаты. Ей вдогонку из кабинетика понеслись слезливые и хрипло звучащие выкрики:
– «Ты найдешь там у нас беспорядок…»
– «Видишь ли, друг мой, я чинил потолок…»
– «Потолок там растрескался…»
– «Надо было…»
Но Софья Петровна Лихутина не слушала вовсе: она стояла в испуге пред грудою на ковер упавших кусков штукатурки, меж которыми прочернел на пол грянувший крюк; стол с опрокинутым на нем стулом был круто отдвинут; из-под мягкой кушетки, на которой Софья Петровна Лихутина так недавно читала Анри Безансон, – из-под мягкой кушетки торчала серая петля. Софья Петровна Лихутина дрожала, мертвела и горбилась.
Там за окнами брызнули легчайшие пламена, и вдруг все просветилось, как вошла в пламена розоватая рябь облачков, будто сеть перламутринок; и в разрывах той сети теперь голубело чуть-чуть: голубело такое все нежное; все наполнилось трепетной робостью; все наполнилось удивленным вопросом: «Да как же? А как же? Разве я – не сияю?» Там на окнах, на шпицах намечался все более трепет; там на шпицах высоких высоко рубинился блеск. Над душою ее вдруг прошлись легчайшие голоса: и ей все просветилось, как на серую петлю пал из окна бледно-розовый, бледно-ковровый косяк от луча встающего солнца. Ее сердце наполнилось неожиданным трепетом и удивленным вопросом: «Да как же? А как же? Почему я забыла?»
Софья Петровна Лихутина тут склонилась на землю, протянула руку к веревке, на которой зарели нежнейшие розоватые кружева; Софья Петровна Лихутина поцеловала веревку и тихонько заплакала: чей-то образ далекого и вновь возвращенного детства (образ забытый не вовсе – где она его видела: где-то недавно, сегодня?): этот образ над ней поднимался, поднялся и вот встал за спиной. А когда она повернулась назад, то она увидала: за спиной стоял ее муж, Сергей Сергеевич Лихутин, долговязый, печальный и бритый: на нее поднимал голубой кроткий взор:
– «Уж прости меня, Сонюшка!»
Почему-то она припала к его ногам, обнимала и плакала:
– «Бедный, бедный: любимый мой!..»
Что они меж собою шептали, Бог ведает: это все осталось меж ними; видно было: в зарю поднималась над ней его сухая рука:
– «Бог простит… Бог простит…»
Бритая голова рассмеялась так счастливо: кто же мог теперь не смеяться, когда в небе смеялись такие легчайшие пламена?
Розоватое, клочковатое облачко протянулось по Мойке: это было облачко от трубы пробежавшего пароходика; от пароходной кормы холодом проблистала зеленая полоса, ударяясь о берег и отливая янтарным, отдавая – здесь, там – искрою золотой, отдавая – здесь, там – бриллиантом; отлетая от берега, полоса разбивалась о полосу, бьющую ей навстречу, отчего обе полосы начинали блистать роем кольчатых змей. В этот рой въехала лодка; и все змеи разрезались на алмазные струнки; струночки тотчас же путались в серебро чертящую канитель, чтоб потом на поверхности водной качнуться звездами. Но минутное волнение вод успокоилось; воды сгладились, и на них погасли все звезды. Понеслись теперь снова блиставшие водно-зеленые плоскости каменных берегов. Поднимаясь к небу черно-зеленой скульптурой, странно с берега встало зеленое, бело-колонное здание, как живой кусок Ренессанса.
На далекое расстояние и туда, и сюда раскидалися закоулки и улички, улицы просто, проспекты; то из тьмы выступал высоковерхий бок дома, кирпичный, сложенный из одних только тяжестей, то из тьмы стена зияла подъездом, над которым два каменных египтянина на руках своих возносили каменный выступ балкона. Мимо высоковерхого дома, мимо кирпичного бока, мимо всех миллионнопудовых громад – из тьмы в тьму – в петербургском тумане Аполлон Аполлонович шел, шел, шел, преодолевая все тяжести: перед ним уж вычерчивался серый, гниловатый заборчик.
Тут откуда-то сбоку стремительно распахнулась низкая дверь и осталась открытой; повалил белый пар, раздалась руготня, дребезжание жалкое балалайки и голос. Аполлон Аполлонович невольно прислушался к голосу, озирая мертвые подворотни, стрекотавший в ветре фонарь и отхожее место. Голос пел: