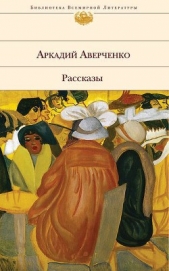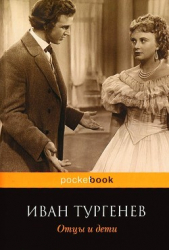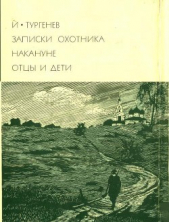Том 7. Отцы и дети. Дым. Повести и рассказы 1861-1867
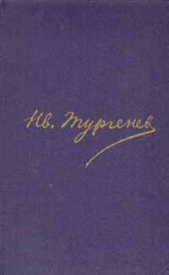
Том 7. Отцы и дети. Дым. Повести и рассказы 1861-1867 читать книгу онлайн
Настоящий том объединяет произведения, написанные в 1860–1867 годах: роман «Отцы и дети» (1860–1862), рассказы «Призраки» (1863–1864), «Довольно» (1862–1865), «Собака» (1864–1866), роман «Дым» (1865–1867).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А из сена-то, как лев, мой Трезор — и вот он! Пасть с пастью так и вцепились оба — да клубом оземь! Что уж тут происходило — не помню; помню только, что я, как был, кубарем через них, да в сад, да домой, к себе в спальню!.. Чуть под кровать не забился — что греха таить. А какие скачки, какие лансады по саду задавал! * Кажется, самая первая танцорка, что у императора Наполеона * в день его ангела пляшет, — и та за мной бы не угналась. Однако, опомнившись немного, я тотчас же весь дом на ноги поднял; велел всем вооружиться, сам взял саблю и револьвер. (Я, признаться, этот револьвер вскоре после эманципации купил, знаете, на всякий случай * — только такой попался бестия разносчик, из трех выстрелов непременно две осечки.) Ну-с, взял я всё это, и таким манером мы целой оравой, с дрекольями, с фонарями и отправились в сарай. Подходим, окликаем — не слыхать ничего; входим, наконец, в сарай… И что же мы видим? Лежит мой бедный Трезорушко мертвый, с перерванным горлом — а той-то, проклятой, и след простыл.
И тут я, господа, взвыл как теленок и, не стыдясь, скажу: припал я к моему двукратному, так сказать, избавителю
и долго лобзал его в голову. И пробыл я в этом положении до тех пор, пока в чувство меня не привела моя старая ключница Прасковья (она тоже прибежала на гвалт). «Что это вы, Порфирий Капитоныч, — промолвила она, — так обо псе убиваетесь? Да и простудитесь еще, боже сохрани! (Очень уж я был налегке.) А коли пес этот, вас спасаючи, жизни решился,так для него это за великую милость почесть можно!»
Я хотя с Прасковьей не согласился, однако пошел домой. А бешеную собаку на следующий день гарнизонный солдат из ружья застрелил. И, стало быть, уж ей такой был предел положон: в первый раз отродясь солдат-то из ружья выпалил, хоть и медаль имел за двенадцатый год. Так вот какое со мной произошло сверхъестественное событие.
Рассказчик умолк и стал набивать себе трубку. А мы все переглянулись в недоумении.
— Да вы, может быть, очень праведной жизни, — начал было г. Финоплентов, — так в возмездие… — Но на этом слове он запнулся, ибо увидал, что у Порфирия Капитоныча щеки надулись и покраснели и глаза съежились — вот сейчас прыснет человек…
— Но если допустить возможность сверхъестественного, возможность его вмешательства в ежедневную, так сказать, жизнь, — начал снова Антон Степаныч, — то какую же роль после этого должен играть здравый рассудок?
Никто из нас ничего не нашелся ответить — и мы по-прежнему пребывали в недоумении.
Дым
10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною «Conversation» * толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; всё кругом — зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, — всё празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; всё улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило, и та же неопределенная, но хорошая улыбка бродила на человечьих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых. Самые даже насурмленные, набеленные фигуры парижских лореток не нарушали общего впечатления ясного довольства и ликования, а пестрые ленты, перья, золотые и стальные искры на шляпках и вуалях невольно напоминали взору оживленный блеск и легкую игру весенних цветов и радужных крыл; одна лишь повсюду рассыпавшаяся сухая, гортанная трескотня французского жаргона не могла ни заменить птичьего щебетанья, ни сравниться с ним.
А впрочем, всё шло своим порядком. Оркестр в павильоне играл то попурри из «Травиаты», то вальс Штрауса, то «Скажите ей» * , российский романс, положенный на инструменты услужливым капельмейстером; в игорных залах, вокруг зеленых столов, теснились те же всем знакомые фигуры, с тем же тупым и жадным, не то изумленным, не то озлобленным, в сущности хищным выражением, которое придает каждым, даже самым аристократическим чертам картежная лихорадка; тот же тучноватый и чрезвычайно щегольски одетый помещик из Тамбова, с тою же непостижимою, судорожною поспешностью, выпуча глаза, ложась грудью на стол и не обращая внимания на холодные усмешки самих «крупиэ», в самое мгновенье возгласа «Rien ne va plus!» [62]рассыпал вспотевшею рукою по всем четвероугольникам рулетки золотые кружки луидоров и тем самым лишал себя всякой возможности что-нибудь выиграть даже в случае удачи, что нисколько не мешало ему, в тот же вечер, с сочувственным негодованием поддакивать князю Коко́ одному из известных предводителей дворянской оппозиции, тому князю Коко́, который в Париже, в салоне принцессы Матильды * , в присутствии императора, так хорошо сказал: «Madame, le principe de la propriété est profondément ébranlé en Russie» [63]. К русскому дереву — à l’Arbre russe — обычным порядком собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы; подходили они пышно, небрежно, модно, приветствовали друг друга величественно, изящно, развязно, как оно и следует существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования, но, сойдясь и усевшись, решительно не знали, что сказать друг другу, и пробавлялись либо дрянненьким переливанием из пустого в порожнее, либо затасканными, крайне нахальными и крайне плоскими выходками давным-давно выдохшегося французского экс-литератора, в жидовских башмачонках на мизерных ножках и с презренною бородкой на паскудной мордочке, шута и болтуна. Он им врал, à ces princes russes [64], всякую пресную дребедень из старых альманахов «Шари-вари» и «Тентамарра» * , а они, ces princes russes, заливались благодарным смехом, как бы невольно сознавая и подавляющее превосходство чужестранного умника и собственную окончательную неспособность придумать что-нибудь забавное. А между тем тут была почти вся «fine fleur» [65]нашего общества, «вся знать и моды образцы» * . Тут был граф X., наш несравненный дилетант, глубокая музыкальная натура, который так божественно «сказывает» романсы, а в сущности двух нот разобрать не может, не тыкая вкось и вкривь указательным пальцем по клавишам, и поет не то как плохой цыган, не то как парижский коафер; тут был и наш восхитительный барон Z., этот мастер на все руки: и литератор, и администратор, и оратор, и шулер; тут был и князь Y., друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмешанной дурманом; и блестящий генерал О. О., который что-то покорил, кого-то усмирил и вот, однако, не знает, куда деться и чем себя
зарекомендовать; и Р. Р., забавный толстяк, который считает себя очень больным и очень умным человеком, а здоров как бык и глуп как пень… Тот же Р. Р. почти один в наше время еще сохранил предания львов сороковых годов, эпохи «Героя нашего времени» и графини Воротынской. * Он сохранил и походку враскачку на каблуках, и «le culte de la pose» [66](по-русски этого даже сказать нельзя), и неестественную медлительность движений, и сонную величественность выражения на неподвижном, словно обиженном лице, и привычку, зевая, перебивать чужую речь, тщательно рассматривать собственные пальцы и ногти, смеяться в нос, внезапно передвигать шляпу с затылка на брови и т. д. и т. д. Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума, воображающие, что золотая булла издана папой и что английский «poor-tax» [67]есть налог набедных * ; тут были, наконец, и рьяные, но застенчивые поклонники камелий, светские молодые львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими бакенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы, молодые львы, которым, казалось, ничего не мешало быть такими же пошляками, как и пресловутый французский говорун; но нет! не в ходу, знать, у нас родное, — и графиня Ш., известная законодательница мод и гран-жанра, прозванная злыми языками «Царицей ос» и «Медузою в чепце», предпочитала, в отсутствии говоруна, обращаться к тут же вертевшимся итальянцам, молдаванцам, американским «спиритам», бойким секретарям иностранных посольств, немчикам с женоподобною, но уже осторожною физиономией и т. п. Подражая примеру графини, и княгиня Babette, та самая, у которой на руках умер Шопен * (в Европе считают около тысячи дам, на руках которых он испустил дух), и княгиня Annette, которая всем бы взяла, если бы по временам, внезапно, как запах капусты среди тончайшей амбры, не проскакивала в ней простая деревенская прачка; и княгиня Pachette, с которою случилось такое несчастие: муж ее попал на видное место и вдруг, Dieu sait pourquoi [68], прибил градского голову и украл двадцать тысяч рублей серебром казенных денег; и смешливая княжна Зизи́ и слезливая княжна Зозо́ — все они оставляли в стороне своих земляков, немилостиво обходились с ними… Оставим же и мы их в стороне, этих прелестных дам, п отойдем от знаменитого дерева, около которого они сидят в таких дорогих, но несколько безвкусных туалетах, и пошли им господь облегчения от грызущей их скуки!