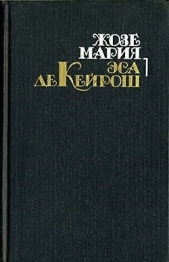Мандарин

Мандарин читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Н. уже с полчаса дремал, шепотом беседуя с самим собой, низко опустив голову, и прядь волос, выцветших, но еще не до конца поседевших, пересекала потный лоб, отчасти к нему прилипнув, и, доставая до кончика носа, чуточку щекотала веки и переносицу, не давая сосредоточиться - ни думать, ни дремать. Его как будто что-то пихнуло: глаза приоткрылись, кровь явственно заструилась в жилах, и ноги напряглись. "Чуть-чуть энергии, - подумал он и попытался улыбнуться, - чуть-чуть внутреннего жара - и совсем другое дело. Во всяком случае, другие мысли." Бамбуковое кресло, в котором он невольно распространился, сразу показалось ему неудобным, и ему потребовалось переменить позу. Вздохнув, - глоток воздуха его освежил, но потребовалось еще, и он решил, что очень душно, - он оперся ладонями на плетеные подлокотники и медленно поднялся, не сразу почувствовав, что уже стоит на ногах, да еще столь твердо, - ноги онемели, - машинально шагнул вперед и левой рукой отвернул круглую створку иллюминатора на сорок пять градусов. В комнату ворвался свежий воздух, и листы бумаги, лежавшие на столике в беспорядке, взмыли и упали на пол. Н. опустился на колени и подобрал их, все, кроме одного, улетевшего за шкаф, - положил их на стол и придавил книгой. Затем, бросив взгляд в окно на бесплотное пространство между морем и небом, он оставил иллюминатор открытым и, семеня, вышел из каюты, чуть качнулся на пороге, понял, что ноги все еще плохо его слушаются, поднялся на несколько ступенек и вышел на палубу.
Там стояло очень похожее, очень заманчивое бамбуковое кресло, но Н. даже не обратил на него внимания. Впрочем, нет, обратил, и оно замаячило где-то в уголке глаза. Он подошел к самому борту, оперся о деревянные перила и слегка через них перегнулся. "Я еще легкий, - подумал он, - если мой брат так наклонится, что-нибудь обязательно не выдержит. Чревато катастрофой." Мимо него, прямо за спиной, пробежал молоденький матрос. Н. поднял голову, и на мгновение их взгляды встретились. Н. показалось, что столкновение было материальным и даже звучным. Карие глаза матроса вспыхнули и сразу же приобрели безразличное выражение. "Зрачки, - мелькнуло у Н., - какие удивительные зрачки, как у кошки, - он замялся, - ну, не как у кошки, щелочками, какая разница, даже не могу сказать, что только зрачки, - белки, радужные кружки - все не как у европейца. И конечно, не как у китайца. Настоящий зверь". "А вообще-то, - это признание отняло у него массу сил и времени, так что, решившись, он вздохнул, обвел горизонт взглядом, ни на чем его не задержав, и как будто опорожнил чашу, - китаец никогда не обратил бы на это внимания."
Все приключение, занимательное, как дрейф льдов вдоль гренландского побережья, заняло тридцать лет, целых тридцать, звучит, если выговоришь, как "миллион", - если решишься - все это время он старел, старательно оберегая себя от лишних переживаний, в чем преуспел, и вообще, ничего нового, - и ведь так понятно, - весть о наследстве переполнила и выплеснула наружу чашу, из которой он пил бы иначе всю жизнь и еще осталось бы. Его судьба решилась после того, как он постановил, что остается жить в своей квартире с тем, чтобы не приспосабливаться к новой и не попадать в неопробованное, заведомо неловкое положение, из которого пойдут-поедут другие, столь же неизведанные, как ростки из срезанной ветки, и жизнь так и пройдет - в отвлечениях, в нескончаемом бегстве от сути. На что ушли эти годы? Он их истратил? Кто знает! Может, необходимо было кирпичиками уложить одни годы к другим. Говорят, что азиаты любого возраста все-гда старые, как мир. Вряд ли они сами это осознают, но даже если так, загадки тут нет - стаж складывается из персонального опыта и возраста цивилизации, наверное, деленного на пятьдесят или даже на сто, только бы они осознавали себя ее частью, и европейцу, даже бывшему, нужно здорово постареть и немало потрудиться, чтобы, поделив на сто, стать с ними на одну доску. Тридцать лет отнюдь не целиком были заполнены поисками - скорее ожиданием. Так путешествие складывается из пути к вокзалу, иногда - поисков вокзала, ожидания поезда и только потом, в конце, - из самой поездки. В течение нескольких лет он что-то предпринимал покупал китайские гравюры, к счастью, в количестве, не превысившем предела, за которым собирательство становится коллекционированием, вещью в себе (их еще можно было развесить по стенам, он так и сделал, но потом многие снял после того, как в квартире появились традиционные шелковые ширмы и занавески), ухаживал за цветами и даже пытался читать книги, причем последнее оказалось совсем уж бесполезным делом. На короткое время у него завелась молоденькая китаянка, которая должна была не то вести, не то украшать дом, миниатюрное создание, не попросившее ни франка после того, как стала его любовницей - собственно, наложницей, ибо они почти не разговаривали. При других обстоятельствах ему трудно было бы с ней расстаться, но, к счастью, привычки и знакомства уже опадали, как листья в октябре - ноябре. Все требует времени, даже бессмысленное ожидание, и хотя не очень-то принято переживать, пока его в достатке, а впереди - десятки плодотворных лет (однако стоило бы по крайней мере задуматься - отчего его так много), скоро оказывается, что и в спешке и в неуютице оно течет быстро, бездумно и совершенно невозможно уловить, что теряешь, безропотно подчиняясь его ходу, - вот так стареешь, одинаково страдая и от избытка, и от недостатка. Так что, если хочешь постареть с толком, сохранив душевное и телесное здоровье, равновесие и трезвый взгляд, нужно жить отдельно от времени, не вмешиваясь в его ход, - ты сам по себе и оно само по себе, - и это, может, единственное, что ему по-настоящему удалось.
Да, это самоуничижение - все время повторять себе, насколько ты мал, равно как и смотреть под ноги и по-старчески щупать палкой землю, самоуничижение, но, споткнувшись, уткнуться в нас носом - это унижение, и потому давайте-ка сочтемся. Может быть, - и вряд ли это новая мысль, но только кто мог это сказать? - путь, избранный Францией и Европой, вернее, европейцами, - сделать людей счастливыми, переустраивая природу и общество, - словом, мироздание, - сделав их прежде всего богатыми, столь же осмыслен и плодотворен, как, скажем, замысел изменить климат или отопить мировое пространство с тем, чтобы в январе не замерзать в своей квартире, то есть устранить холодную зиму как факт, - недаром один мыслитель предпочитал разводить у себя дома пресмыкающихся, - даром что они змеи и аллигаторы, - а не теплокровных. Это, может, и неплохой путь, и простой, и решительный, но очень уж он расточителен и уж слишком быстро растет на этом пути энтропия. В конце концов, тому, кто не хочет топить в квартире печку или камин, проще и надежнее обогреваться при помощи физических упражнений - это, по крайней мере, бесплатно.
Солнце просияло, проткнув облачко, как все в Китае, напоминавшее дракона.
Дело, однако, не в этом, не в этом, не в том, что жалко времени, денег и ресурсов, дело в экологии, в воде, в атмосфере - сколько же угля будет сожжено, воздуха отравлено, пока наши умники поймут, что от печек европейская зима теплее не станет, а если избыток углекислого газа в атмосфере и изменит среднеянварскую температуру в Лондоне, то много раньше основательно подтают полярные ледовые шапки и этот самый Лондон окажется под водой. Беда в том, что ущерб, который наносит сама себе европейская цивилизация, - худший из возможных видов ущерба, ибо он непоправим, ибо обратить вспять выветривание - все равно что реку, все равно, что жизнь будет только хуже, уровень энтропии никогда не понижается, не стоит и пытаться. Стало быть, весь расчет на безграничность ресурсов, но ведь мы-то знаем по крайней мере с восемнадцатого века, что земля круглая, а мир тесен, поэтому г-жа де Помпадур и сказала: "После нас хоть потоп", а не: "Все будет о?кей", может быть, имея в виду как раз ледовые шапки. Поэтому-то только в Европе все так быстро и, увы, необратимо меняется - девятнадцатый век разительно непохож на восемнадцатый, восемнадцатый - на семнадцатый, эра паровоза - на век Просвещения, а век Просвещения - на эпоху Великих географических открытий. Разумеется, вехи, события, эпохи, пестрота, но всегда главное отличие - следующая расточительнее предыдущей. Те, кто полагает, что колонизация чужих земель - дело стоящее, еще пожалеет, когда земли все выйдут, а привычка останется.