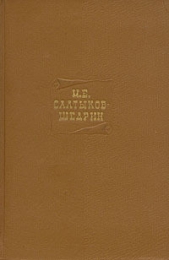Невинные рассказы

Невинные рассказы читать книгу онлайн
Самое полное и прекрасно изданное собрание сочинений Михаила Ефграфовича Салтыкова — Щедрина, гениального художника и мыслителя, блестящего публициста и литературного критика, талантливого журналиста, одного из самых ярких деятелей русского освободительного движения.
Его дар — явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова — Щедрина.
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова — Щедрина, осуществляется с учетом новейших достижений щедриноведения.
Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В третий том вошли циклы рассказов: "Невинные рассказы", "Сатиры в прозе", неоконченное и из других редакций.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Так вы так-то! — вскричала Наденька, оправившись внезапно от своего испуга и быстро вскочив с постели, несмотря на очевидную легкость своего костюма, — так вы вот как! вы не удовлетворяетесь тем, что по целым ночам стонете и не даете мне спать — вы еще и подсматривать вздумали! Вы думаете, что я не благородная, не мадам, так со мною все, дескать, можно! Ошиблись, сударь, очень ошиблись! Конечно, я простая девица, конечно, я русская, да не хуже иной барыни, не хуже немки; вот что-с!
И маленькие глазки ее горели; маленькие ноздри раздувались, маленькие губы дрожали от гнева и негодования… Но привидение, которое было не что иное, как сам Иван Самойлыч, вместо ответа издало чрезвычайно простой и односложный звук, более похожий на мычанье, нежели на вразумительный ответ.
— Я все понимаю! — бойко сыпала между тем Наденька, — все понимаю не хуже всякой другой… Бесстыдник, сударь, срамник!
Иван Самойлыч отвечал, но как-то отрывисто и бессвязно; и притом звук его голоса был так сух и беззвучно-бесстрастен, как будто ему и не шутя было больно и тошно жить на свете.
Говорил он все прежнюю историю, что вот, дескать, другие едят, другие пьют… все другие…
Наденька слушала его в страхе и трепете; никогда она не видала его столь решительным; сердце ее упало; голос замер в груди; она хотела звать на помощь и не могла; умоляя, простирала она свои маленькие ручонки к лукавому нарушителю ее спокойствия; жалобен и безмолвно-красноречив был ее взор, взывавший о пощаде… Привидение остановилось.
— Так вам очень гадко со мною?.. — сказало оно голосом, заглушаемым накипевшими в груди рыданиями, — так я очень противен?..
— Оставьте меня! — едва слышно шептала Наденька.
Привидение не трогалось; молча стояло оно у заветного изголовья, и невольные слезы непризнанной горести, слезы оскорбленного самолюбия крались по впалым и бледным, как смерть, щекам его.
— Бог с вами! — сказало оно шепотом и медленно направило к двери шаги свои.
Наденька вздохнула свободно. Сгоряча она хотела было закричать и объявить всем и каждому, что вот, дескать, так и так; но — странное дело! — ни с того ни с сего почувствовала она, как будто в груди ее вдруг зашевелилось что-то такое, что, с одной стороны, очень и очень намекало на совесть, а с другой, могло назваться, пожалуй, и жалостью. Грустно взглянула она вслед удаляющемуся Ивану Самойлычу и даже чуть-чуть не решилась позвать его назад, чтоб объяснить ему, что не виновата же и она, что дело такой оборот приняло… И все-таки ничего не сказала, а просто посмотрела, как он вышел из комнаты, заперла поплотнее дверь, покачала головой, прибрала с полу две или три завалявшиеся бумажки и снова легла почивать.
VII
Именинный обеденный стол был устроен на славу. Шарлотта Готлибовна не пожалела ни трудов, ни издержек, чтоб угодить своему любезному кавалеру. Она истоптала себе все ноги, но к трем часам все уже было готово. Даже она, сухопарая и продолговатая хозяйка, приличным образом подкрасившись, рисовалась в столовой, производя приятный для слуха шум накрахмаленною, как картон, юбкою.
Когда Иван Самойлыч явился в столовую, вся компания была уж налицо. Впереди всех торчали черные как смоль усы дорогого именинника; тут же, в виде неизбежного приложения, подвернулась и сухощавая и прямая, как палка, фигурка Шарлотты Готлибовны; по сторонам стояли известные читателю: кандидат философии Беобахтер и обольстительный, но несколько апатический недоросль Алексис под руку с девицей Ручкиной.
Казалось, Наденька была совершенно довольна своею судьбой, потому что очень любила порядочную компанию и вообще чувствовала некоторый недуг к людям, которые не принадлежали к так называемой швали — мастеровым, лакеям, кучерам и далее до бесконечности.
Конечно, рассуждая строго, происхождение Шарлотты Готлибовны было покрыто весьма густым мраком неизвестности, но Наденька смотрела на этот предмет сниходительно. Она, разумеется, не могла не допустить, что Шарлотта Готлибовна, действительно, не русская…
И теперь, как и всегда, Иван Макарыч шутил над ученым Алексисом, приговаривая:
— А подлец Бинбахер-то! Знать ничего не хочет! ничего, говорит, не надо! все уничтожу, все с глаз долой! Ах, эти немцы!
И, по обыкновению, Шарлотта Готлибовна, потупив глаза, отвечала: «О, ви очень любезни кавалир, Иван Макарвич!», и, по обыкновению, осталось покрыто мраком неизвестности, кого именно разумел господин Пережига под словом Бинбахер.
— А не выпить ли нам водочки, мадам? — возопил именинник, обращаясь к Шарлотте Готлибовне, — ведь нынче времена-то опасные! слышь ты, холера по свету бродит! а вот мы ее, холеру! вот мы ее! по-свойски-то, по-нашему!
И действительно, холера, вероятно, сильно поморщилась, когда господин Пережига вытянул одним глотком огромную рюмку, которую он не без едкости называл стаканчиком на ножке.
За обедом было очень весело; лица всех смотрели как-то благоприятно и ободрительно. Алексис беспрестанно, и кстати и некстати, улыбался; Беобахтер тоже не делал обычного движения рукою сверху вниз; Пережига же всех по чести уверял, что Бинбахер ничего не знает, потому что немец, а вот у него спросите, так он русский и знает, да еще так знает, что у Шарлотты Готлибовны от одной этой мысли закатывались под лоб глаза.
— У, как я был на своей-то стороне! — гремел он, с самодовольным видом покручивая усы, — у меня был двор!.. то есть, что все эти здешние дворы! просто дрянь! Одних егерей было человек пятьдесят! Музыканты свои были! Театр домашний был! плясуньи были, комедии представляли! Вот оно, какое житье-то было! любезное житье!
Конечно, Иван Макарыч большую половину прихвастнул, но присутствующие из учтивости почли долгом не возражать ему, а Шарлотта Готлибовна даже совершенно была уверена в истине слов своего любезного кавалера и с непритворным участием вмешалась в разговор, сказав в скобках:
— О, это, должно быть, ужасно чудесно было!
— Уж так чудесно, что просто невозможно! Уж я вам скажу, такие были актеры — просто на славу! Вся губерния съезжалась смотреть — истинно вам говорю!
По поводу актеров господина Пережиги разговор перешел вообще к оценке эстетических и других способностей человека, и при этом развивались гостями самые мудрые и затейливые мысли.
Беобахтер, махая ручонкою сверху вниз, говорил самым приятным и вкрадчивым тенором, что оно, конечно, ничего, жить можно, а все-таки не дурно и даже полезно, если «прихлопнет» да «притиснет». Буква р, по обыкновению, играла и тут весьма немаловажную роль.
Алексис болтал во рту языком и безотчетно размахивал во все стороны руками.
Шарлотта Готлибовна утверждала насчет этого предмета что-то столь жестокое и обидное, что Наденька почла за долг вступиться и тут же колко дать ей почувствовать, что она хотя и благородная немка (о! никто в этом не сомневается!) и хотя «всем, конечно, известно», что в ихней земле водятся дворяне, но ведь и в других землях отнюдь не все же мастеровые или чумички какие-нибудь… о нет, далеко не все!
Весь этот шум покрывался густым басом Пережиги, который смело утверждал, что все это вздор, что тут «иначе» быть нельзя и что у него, дескать, спросите, так он знает и мигом все объяснит.
— А скажите, пожалуйста, — начал между тем Иван Самойлыч, очевидно стараясь исподволь дать разговору интересующий его оборот, — вот вы, Иван Макарыч, вы человек опытный, бывалый… Вот хоть бы у вас: ведь, я думаю, у каждого из них было свое особенное назначение, своя особенная, так сказать, роль в жизни?..
— Разумеется, было! чего на свете не бывает, — отвечал Иван Макарыч, от частых возлияний одобрительно кивая на все стороны головой, — известно, — один псарь, другой егерь, третий просто чумичка! Как не быть!
И опять пошли толки о трудности отыскать человеку в бренной его жизни назначение. Пережига отзывался, что тут вообще «поломаешь-таки себе голову», и действительно, в то же время начал с таким рвением ломать себе голову при виде беспрестанно возрастающих и вновь отвсюду восстающих затруднений, что непременно погиб бы в этой борьбе, если бы не спас его известный стаканчик на ножке, которому он не переставал свидетельствовать свое почтение.