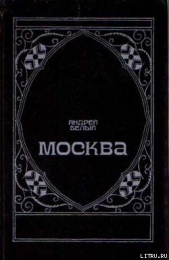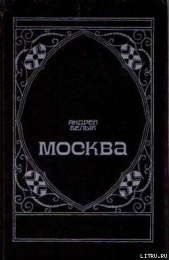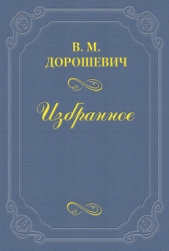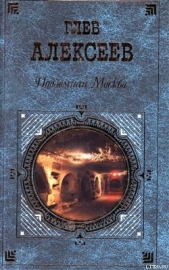Том 3. Московский чудак. Москва под ударом

Том 3. Московский чудак. Москва под ударом читать книгу онлайн
Андрей Белый вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
В третьем томе Собрания сочинений два романа: «Московский чудак» и «Москва под ударом» — из задуманных писателем трех частей единого произведения о Москве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Посмотрел на часы:
— Мне — пора-с.
— ?
— Я к Никите Васильевичу. Задопятов поблизости жил.
Кувырки своим носом пуская, он несся в полях — за сквозным мотыльком; завертел черным зонтиком.
Скрылась с серебряной песенкой в зелень, жидневшую солнечную желтизною, вспугнув синезобую птичку: колечко играло сквозь зелень лиловою искоркой с пальчика: две горихвосточки вспышками красно-оранжевых хвостиков из-за шиповничьих зарослей яро бросились за мушкой — у пруда с бутылочно-цветной водой, отражающей сумрак оливковых рощ: ликом, ясным, как горный хрусталь, — отразилась она: развевалась на плечике густоросль мягких, каштановых прядей.
И — бросила камушек.
Отблеск серебряный тронулся; пруд — передернулся: блеснью излива; и — зеленоного стрельнула лягушка: туда пузыречек серебряный глюкнул из глуби; паук водяной, неподвижно распластанный, — прочь устрельнул: под купальню, пропахшую очень горькой ольхою и плесенью.
8
Хлюпали ноги мохнаем; пошел — мокрозем; места — топкие; фикал болотный кулик; сине-ртутной водицей болотце блеснуло из рясок и аэров с мельком раскромсанных мошек; парок: подтуманило; села кривулькой: бочок поднывал; у села Пересохина (с непросыхающей лужею), где тупоуглые домики криво валились промшелыми крышами, — выбралась у коноплянников; здесь неискосный лопух расширялся вполроста.
Вдруг стала: прислушалась.
Явственно кто-то, как щепкое дерево, задроботал — очень тоненьким, чтеческим голосом:
— Этот лопух называют еще «чумный корень», а ягоды — нет у него.
И ответило: хрипом и гнусами:
— Много ли ягод: две-три; и — обчелся! Приблизилась Наденька.
— Много ли ягод? Ну, это — напрасно вы; всякая ягода есть: голубика, крушина, дурман, волчья ягода… все это — ягоды…
Наденька видела — нет никого: лопухи; лопухи помолчали: и вдруг, почти рядом качнулся без ветра стареющий зонт лопушиный под небо — представьте — с немецкою песней:
Дроботало, как щепкое дерево, кучка больших лопухов:
— Етта правильно, что вы поете.
— Майн готт!
— Извините-с, — о чем тут поется?
— О том, что «я» наше и слепо, и глупо…
— Я, я, — заперечил лопух, — полно якать: оставьте, пожалуйста, вы ваши «яшки»; без «яшек» живете; и так «Яшей» стал божий раб, Людвиг Августович; вы живите себе, как живет шелкопряд: он — летает себе, с дружкой любится.
Продребежжало весьма назидательно:
— Коли со свищиком ходите, — плюньте; что свищик, что прыщик: телесности; умственной жизнью живите, раздумывайте о прекрасных твореньях природы; прядите, скажу, свою мысль, как, опять — шелкопряд; своей жизнью разводит он шелк; ну и вы — разводите. Гнусило:
— Свинья я!..
— А будьте хотя бы свиньею, — прошаркало словом, как спичкой, — полезна свинья: она кормит нас мясом; и даже свиная щетина идет по разборам: на щетки, на кисти… Так прямо с щетинистым рылом в пушные ряды не войдете, — и вдруг лопухи разлетелись.
В разрыв лопухов протянулось худое лицо с бороденкою клинышком, с темными всосами щек, с двумя ухами, как у летучих мышей; улыбнулось нечищеным, желто-коричневым зубом, свой рот разорвавши до правого уха.
И — юностно выговорило:
— Очищайтесь: отмойтесь.
Кричало в лопух; и лопух — прогнусил:
— О, майн готт!
— «Бох» или «готт»: все — одно, что природа… Затеяли дело хорошее: предупреждением чистосердечным помочь; а зачем на попятную вы? Это даже престранно; приехали, можно заметить, — и за обратный билет заплатили, а — чем дело кончилось? Сели в лопух.
— О, майн готт, — тут полицию впутают…
— Вы — без полиции: чистым манером — на дачку, да и… «Так и так: соблюдите бумаги!..» А вы — вот заякали: сели в лопух…
Тут Надюша — увидела: под лопухом застарелым сидел прирученною жабой, смотря во весь рот пред собою — представьте же — «Яша», карлишка, который напротив них жил в телепухинском доме: в Москве.
Как попал он сюда?
Голова, помолчав, задрежжала в разроет лопухов:
— Есть немецкие песни про всякую — скажем — божественность?
— Как же…
— А вы б, — как в природе мы, — спели бы песню свою: ну, про самую эту — божественность.
Карлик подумал; и вдруг — загнусавил:
Он и гнусом, и хрипом выкрикивал в небо: но вдруг голова, увидавши Надюшу, как мышечка, носиком ерзнула, палец ко рту приложивши; и — шэсть: под лопух; никого: лишь — разроет лопухов.
Лопухи шепепенили.
9
Клумбы, боскеты, кусты подрезные пропучились тенью, а пегий песочек — рудел; кустик, сбрызнутый вздрогами капель, осыпался; пылом подсолнечным плавилась речка; в подстриженном садике, пахнущем и резедой, и левкоями, за маркезитовою, литой загородкой у клумбы с лиловыми флоксами в сером во всем, с перевязанным пальцем (нарыв разыгрался) сидел Задопятов, листая Бальзака.
Серебряный шар раздувался из пятен настурциев над головою его, выяснялась на фоне синявой стены, изукрашенной белым фасетом и переходящей в веранду, где кадка-дождевка стояла и где из изогнутой лейки садовника прядали перлы на розовые и брусничного цвета соцветия; под парусиною синеполосой виднелося кресло-колясочка: спинкою к клумбам.
Никита Васильевич вздрогнул, услышавши шорох: взглянул, — весь затрясся; и томик Бальзака упал, как-то быстро подбросился — дрябленьким пукликом, перевлекая зады к загородке: навстречу.
Заметим.
Снимая шаль, он не знал, что Коробкин — в этой же местности; точно чумы Василисы Сергеевны он избегал; до сих пор задержалась в Москве еще; но он предчувствовал, что посещение — будет: профессорша…
И — появилась.
Захлопнув калитку, она приближалася — бледно дымея духами и кружевом зонтика, в серо-сиреневом, легком своем матинэ, в серо-синенькой юбке, закутавши шею сквозною и веющей серокисельною шалью.
Он губы надул на нее.
И за нею сжелтилися пятна осолнечных трав; белел дом с того берега, выступивший из кусточков куском колоннады и темной, железною крышею; выше, из синего воздуха, вниз веретенясь, — крыло коромысла: и ближе, — и бац — протрескочило: около лба; Василиса Сергеевна, веки сощурив, головку склоняла набок, зажигая свой взгляд аллегретто; себя ощущала она — Микаэллою, тореадором — его:
— Ну, я — вот.
Но в «я — вот» был испуг, даже — злость: представлялась возможность, что он ей укажет на двери.
Никита Васильевич был джентльменом: он — тек ей навстречу, неся не лицо, но дрябье, суетливо пошлепывая по песочкам; увидела: он полагал расстоянье меж ней и террасой, откуда вразлет парусины глядела колясочка-кресло на ясных колесиках; в кресле из тряпок какие-то дулись шары.
На «шары» закивала: