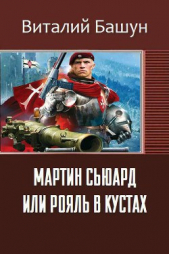Рассказы
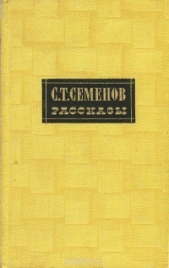
Рассказы читать книгу онлайн
Крестьянский писатель-самоучка. К литературе пришел под влиянием Льва Толстого, с которым состоял в многолетней переписке. За толстовские убеждения подвергался преследованиям. В 1908 г. был выслан из России на два года. Позже вернулся к крестьянскому труду. Был убит соседом-мракобесом, принявшего успешное ведение хозяйства за колдовство
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На мощеном дворе ходили рабочие, каменщики, плотники в холстиновых фартуках. Молодой мужик в пиджаке распоряжался ими. У одного угла стояли два господина в белых каленых воротничках и в шляпах и о чем-то говорили между собой.
-- Немцы! -- шепнул мальчику крестный и, снявши картуз, низко поклонился. Один из немцев, с рыжими усами, дотронулся до козырька круглой фуражки; другой же совсем не заметил поклона.
Пройдя двор поперек, крестный направился в низкую широкую дверь и стал подниматься по каменной лестнице на первый этаж. Через другую такую же дверь они вошли в обширное помещение с окнами на две стороны, обставленное нарами, из голых досок. На этих нарах кое-где были раскинуты постели, сидели люди кучками и в одиночку, но далеко не все места были заняты.
Павел уверенно прошел в один угол, сбросил сумку на пустые доски и стал раздеваться.
-- Демидычу почтенье, с приездом! -- крикнули Павлу из одной кучки, помещавшейся на другой стороне спальни.
Знакомые стали перекидываться с ним словами. Но были и незнакомые. К пасхе на фабрике давали общий расчет; одни оставались в деревне, другие переходили на другие фабрики, поэтому вновь вместе со старыми приходило много новеньких. Павел, разговаривая, скинул с себя поддевку, потом сапоги; сбросив портянки, он полез под нары, достал оттуда запылившиеся опорки и сунул в них ноги. Потом выдвинул оттуда же небольшой деревянный сундучок, отпер его висевшим на поясе ключиком и достал жестяной чайник.
-- Вот я сейчас пойду, чайку заварю... Да раздевайся, что ли. Дальше мы никуда не пойдем, здесь и ночуем, а утром там поглядим... Утро вечера мудренее.
Макарка нехотя расстегнул крючки у своей поддевочки и стал ее скидавать. Ему не хотелось ни раздеваться, ни оставаться здесь. Он совсем не так представлял себе московское житье. Спальня страшила его своей неуютностью. Шевелившиеся в разных местах люди казались такими озабоченными, как седоки, подъезжая к Москве. У них не было той простоты, как в деревне, где у человека часто что на уме, то и на языке. Темные тени лежали на всех лицах, и они напоминали Макарке их старосту, который ругал всегда его отца и гонялся за ребятишками, если они забивались в чужой горох или разводили огонь в лесу.
Макарка робко оглядывался кругом, боясь глядеть прямо в лицо, несмотря на любопытство. Неясное, давящее чувство закрадывалось ему в сердце. Неужели он будет жить среди таких людей, среди которых нет ни одного близкого сердцу? И дома у него после отца никого не было, но там хоть знакомые углы. Есть места, в которых поднимаются сладкие воспоминания.
Крестный принес чайник кипятку, от которого шел пар, и угол мягкого ноздреватого хлеба с блестящей коричневой коркой. Поставив это на сундучок, он проговорил:
-- Ну, давай-ка поправляться. Гляди, здесь хлеб-то какой, не как у нас в деревне.
Хлеб был действительно вкусный, а горячий чай так приятно согревал внутри; но чувство, запавшее в душу Макарки, все еще не проходило. Он рассеянно глядел по сторонам. Крестный тоже был озабочен и мало говорил. Когда напились чаю, он убрал посуду и сказал:
-- Ну, когда-то у нас прием начнется, да на что поставят, на сатин или кашемир?.. А ты ложись, -- посоветовал он Макарке, -- сыт, и слава богу.
Макарка пододвинул свою сумку к стене, сбросил сапожонки и лег на голые нары. Сверху он накинул поддевочку. Несмотря на простоту ложа, Макарка не чувствовал никакого неудобства, все члены его сладко заныли после дороги. Усталость сказалась так, что, когда он немного полежал, ему уже трудно было шевельнуться. Но все-таки ему не спалось, билось сердечко и стучало в висках; тяжесть, сдавившая ему грудь, все не проходила, и он не знал, как от нее освободиться. Москва и фабрика, так заманчиво казавшиеся ему издали, когда он увидел их, так испугали его, точно он попал в клетку страшного зверя. Зверь еще не показывал ему своих зубов, но Макарка чувствовал, что ему с ним будет не сладко, а между тем убежать от него нельзя и покричать некому. Был бы отец -- совсем другое дело.
И чем дальше, скоплялось больше горечи. Она подступала к горлу, и ему хотелось плакать. Он прислушался, что делал крестный. Крестный лежал навзничь, закинув руки назад и положивши ладони под голову, и тоже не спал. Он тоже, должно быть, думал о звере, хотя он знал уже, как с ним обходиться, и ему легче вырваться из клетки.
В сердце у Макарки закипело. Он увидел себя покинутым, одиноким, которого никому не жалко; от него хотят отделаться и послали сюда. То его спихнула с шеи мать, а завтра стряхнет крестный. Сведут к какой-то тетке, а она, может, такая же, как мать.
Макарке стало жалко себя, и он заплакал. Слезы поднимались у него из глубины души и давили горло. Он рыдал глухо, как воет скучающая собака. Несмотря на то, что он закутал полою свою голову, крестный все-таки услыхал его.
-- Ты что это, дурашка? А? Али скушно стало? Вот тебе на! Только ввалился, как слезами залился.
Макарка ничего не сказал, зато теперь, чувствуя, что ему уже нет возможности скрываться, дал волю своим слезам.
-- Ну, будет, перестань! Вот утром к тетке сведу, она тебя приголубит. На первых порах, знамо, скучно, -- это со всеми бывает, -- а потом обойдется.
"Нет, не обойдется, -- думал Макарка. -- Как мне здесь жить одному, с кем слово сказать?.."
V
Утром Павел с Макаркой пошли к его тетке. Павел говорил мальчику названия улиц и замечательных мест, провел через Кремль, где они дивились на соборы, дворцы, царь-колокол, царь-пушку. Спустившись в одни ворота, из Кремля они пошли по новым улицам.
Они долго шли и подошли к Москве-реке. Через реку налево тянулся длинный мост, огороженный в клетку широкими полосами, а направо был изгиб реки; по ту сторону постройки были редкие, низкие, перемежались пустым местом; по эту же -- дома были частые и большие. Из-за них росли вверх высокие трубы. Особенно велики трубы виднелись вдалеке на холме, и корпуса там поднимались высокие, чернея сеткой бесчисленных окон.
Они прошли немного по берегу и остановились у одних ворот. Ворота, как и везде, были заперты. Около них, как и у той фабрики, где они ночевали, стояла будка, а в будке сидел рябой мужик с медной бляхой на картузе.
-- Кого надо? -- поднимаясь, спросил сторож, окинув взглядом мужика и мальчика.
-- Пошли, сделай милость, Матрену-монашку, -- попросил Павел.
Сторож провел рукой по бороде, расправил усы и, выйдя из будки, приотворил калитку и стал глядеть во двор. Вот там что-то мелькнуло, и сторож крикнул:
-- Эй, милый, бежи-ка в женскую спальню да спосылай Матрену-монашку!
Он захлопнул калитку и опять влез в будку.
А Павел стоял задумчиво, засунув руку в карман.
Макар глядел по ту сторону, где на холме, как крепость, возвышались огромные постройки. Павел поглядел на него и сказал:
-- Три горы -- это вон прохоровские корпуса, а это, вишь, часть...
-- А что же это за рога? -- спросил Макарка.
-- На них шары вешают, когда пожар. Днем -- шары, а ночью -- фонари. А из этого места, -- показал Павел на круглый, купол, -- ученые звезды считают; как ночь, так они выставят подзорные трубы и считают.
-- Да, вот считают, считают, а никак не сочтут, -- заметил сторож, -- не дается им господня планида.
-- А вон там внизу Зоологический... Зимой там бега бывают, а летом всякое зверье... Вот сходишь когда-нибудь, поглядишь.
-- Коль пятиалтынный приготовишь, а то и погодишь, -- опять вмешался сторож.
-- Заработает, -- уверенно сказал Павел, -- затем и в Москву пришел, чтобы деньги зарабатывать.
За калиткой послышались торопливые шаги. Щелкнула щеколда -- калитка отворилась, вышла среднего роста женщина, худая, с продолговатым лицом, покрытым веснушками. На голове ее был накинут черный платок, а на плечах -- ватная кофта. Она с удивлением глядела на пришедших, не узнавая их. Павел снял картуз и, улыбаясь, проговорил: