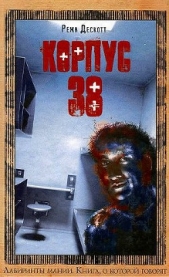Раковый корпус
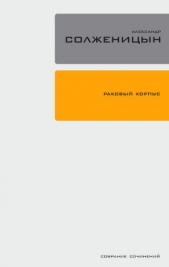
Раковый корпус читать книгу онлайн
В третьем томе 30-томного Собрания сочинений печатается повесть «Раковый корпус». Сосланный «навечно» в казахский аул после отбытия 8-летнего заключения, больной раком Солженицын получает разрешение пройти курс лечения в онкологическом диспансере Ташкента. Там, летом 1954 года, и задумана повесть. Замысел лежал без движения почти 10 лет. Начав писать в 1963 году, автор вплотную работал над повестью с осени 1965 до осени 1967 года. Попытки «Нового мира» Твардовского напечатать «Раковый корпус» были твердо пресечены властями, но текст распространился в Самиздате и в 1968 году был опубликован по-русски за границей. Переведен практически на все европейские языки и на ряд азиатских. На родине впервые напечатан в 1990.
В основе повести – личный опыт и наблюдения автора. Больные «ракового корпуса» – люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев. Читатель становится свидетелем борения с болезнью, попыток осмысления жизни и смерти; с волнением следит за робкой сменой общественной обстановки после смерти Сталина, когда страна будто начала обретать сознание после страшной болезни. В героях повести, населяющих одну больничную палату, воплощены боль и надежды России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И он рад был, когда Поддуев выписался, а на его койку перелёг белобрысый Федерау из угла. Вот уж кто был тихий! – уж тише его в палате не было. Он мог за целый день слова не сказать – лежал и смотрел грустно. Как сосед, он был для Вадима идеален, – но уже послезавтра, в пятницу, его должны были взять на операцию.
Молчали-молчали, а сегодня всё-таки зашло что-то о болезнях, и Федерау сказал, что он болел и чуть не умер от воспаления мозговой оболочки.
– Ого! Ударились?
– Нет, простудился. Перегрелся сильно, а повезли с завода на машине домой, и продуло голову. Воспалилась мозговая оболочка, видеть перестал.
Он спокойно это рассказывал, даже с улыбкой, не подчёркивая, что трагедия была, ужас.
– А отчего ж перегрев? – Вадим спросил, однако сам уже косился в книжку, время-то шло. Но разговор о болезни всегда найдёт слушателей в палате. От стенки к стенке Федерау увидел на себе взгляд Русанова, очень сегодня размягчённый, и рассказывал уже отчасти и ему:
– Случилась в котле авария, и надо было сложную пайку делать. Но если спускать весь пар и котёл охлаждать, а потом всё снова – это сутки. Директор ночью за мной машину прислал, говорит: «Федерау! Чтоб работы не останавливать, надень защитный костюм да лезь в пар, а?» – «Ну, – я говорю, – если надо – давайте!» А время было предвоенное, график напряжённый – надо сделать. Полез и сделал. Часа за полтора… Да как отказать? Я на заводской доске почёта всегда был верхний.
Русанов слушал и смотрел с одобрением.
– Поступок, которым может гордиться и член партии, – похвалил он.
– А я и… член партии, – ещё скромней, ещё тише улыбнулся Федерау.
– Были? – поправил Русанов. (Их похвали, они уже всерьёз принимают.)
– И есть, – очень тихо выговорил Федерау.
Русанову было сегодня не до того, чтобы вдумываться в чужие обстоятельства, спорить, ставить людей на место. Его собственные обстоятельства были крайне трагичны. Но нельзя было не поправить совершенно явную чушь. А геолог ушёл в книги. Слабым голосом, с тихой отчётливостью (зная, что напрягутся – и услышат), Русанов сказал:
– Так быть не может. Ведь вы – немец?
– Да, – кивнул Федерау, и кажется сокрушённо.
– Ну? Когда вас в ссылку везли – партбилеты должны были отобрать.
– Не отобрали, – качал головой Федерау.
Русанов скривился, трудно ему было говорить:
– Ну так это просто упущение, спешили, торопились, запутались. Вы должны сами теперь сдать.
– Да нет же! – на что был Федерау робкий, а упёрся. – Четырнадцатый год я с билетом, какая ошибка! Нас и в райком собирали, нам разъясняли: остаётесь членами партии, мы не смешиваем вас с общей массой. Отметка в комендатуре – отметкой, а членские взносы – взносами. Руководящих постов занимать нельзя, а на рядовых постах должны трудиться образцово. Вот так.
– Ну, не знаю, – вздохнул Русанов. Ему и веки-то хотелось опустить, ему говорить было совсем трудно.
Позавчерашний второй укол нисколько не помог – опухоль не опала, не размягчилась и железным желваком всё давила ему под челюсть. Сегодня, расслабленный и предвидя новый мучительный бред, он лежал в ожидании третьего укола. Договаривались с Капой после третьего укола ехать в Москву – но Павел Николаевич потерял всю энергию борьбы, он только сейчас почувствовал, что значит обречённость: третий или десятый, здесь или в Москве, но если опухоль не поддаётся лекарству, она не поддастся. Правда, опухоль ещё не была смерть: она могла остаться, сделать инвалидом, уродом, больным – но всё-таки связи опухоли со смертью Павел Николаевич не усматривал до вчерашнего дня, пока тот же Оглоед, начитавшийся медицинских книжек, не стал кому-то объяснять, что опухоль пускает яды по всему телу – и вот почему нельзя её в теле терпеть.
И Павла Николаевича защипало, и понял он, что отмахнуться от смерти не выходит. Вчера на первом этаже он своими глазами видел, как на послеоперационного натянули с головой простыню. Теперь он осмыслил выражение, которое слышал между санитарками: «этому скоро под простынку». Вот оно что! – смерть представляется нам чёрной, но это только подступы к ней, а сама она – белая.
Конечно, Русанов всегда знал, что, поскольку все люди смертны, когда-нибудь должен сдать дела и он. Но – когда-нибудь, но не сейчас же! Когда-нибудь не страшно умереть – страшно умереть вот сейчас.
Белая равнодушная смерть в виде простыни, обволакивающей никакую фигуру, пустоту, подходила к нему осторожно, не шумя, в шлёпанцах, – а Русанов, застигнутый этой подкрадкой смерти, не только бороться с нею не мог, а вообще ничего о ней не мог ни подумать, ни решить, ни высказать. Она пришла незаконно, и не было правила, не было инструкции, которая защищала бы Павла Николаевича.
И жалко ему было себя. Жалко было представить такую целеустремлённую, наступательную и даже, можно сказать, красивую жизнь, как у него, – сшибленной камнем этой посторонней опухоли, которую ум его отказывался осознать как необходимость.
Ему было так жаль себя, что наплывали слёзы, всё время застилали зрение. Днём он прятал их то за очками, то за насморком будто, то накрываясь полотенцем, а эту ночь тихо и долго плакал, ничуть не стыдясь перед собой. Он с детства не плакал, он забыл, как это – плакать, а ещё больше, совсем забыл он, что слёзы, оказывается, помогают. Они не отодвигали от него ни одной из опасностей и бед – ни раковой смерти, ни судебного разбора старых дел, ни предстоящего укола и нового бреда, и всё же они как будто поднимали его на какую-то ступеньку от этих опасностей. Ему будто светлей становилось.
А ещё он – ослаб очень, ворочался мало, нехотя ел. Очень ослаб – и даже приятное что-то находил в этом состоянии, но худое приятное: как у замерзающего не бывает сил шевелиться. И как будто параличом взяло или ватой глухой обложило его всегдашнюю гражданскую горячность – не мириться ни с чем уродливым и неправильным вокруг. Вчера Оглоед с усмешечкой врал про себя главврачу, что он – целинник, и Павлу Николаевичу стоило только рот раскрыть, два слова сказать – и уже б Оглоеда в помине тут не было.
А он – ничего не сказал, промолчал. Это было с гражданственной точки зрения нечестно, его долг был – разоблачить ложь. Но почему-то Павел Николаевич не сказал. И не потому, что не хватило дыхательных сил выговорить или бы он боялся мести Оглоеда, – нет. А даже как-то и не хотелось говорить – как будто не всё, что делалось в палате, уже касалось Павла Николаевича. Даже было такое странное чувство, что этот крикун и грубиян, то не дававший свет тушить, то по произволу открывавший форточку, то лезший первый схватить нетроганую чистую газету, в конце концов, взрослый человек, имеет свою судьбу, может не очень счастливую, и пусть живёт как хочет.
А сегодня Оглоед ещё отличился. Пришла лаборантка составлять избирательные списки (их тут тоже готовили к выборам) и у всех брала паспорта, и все давали их или колхозные справки, а у Костоглотова ничего не оказалось. Лаборантка, естественно, удивилась и требовала паспорта, так Костоглотов завёлся шуметь, что надо, мол, знать политграмоту, что разные есть виды ссыльных, и пусть она звонит по такому-то телефону, а у него, мол, избирательное право есть, но в крайнем случае он может и не голосовать.
Вот какой мутный и испорченный человек оказался сосед по койке, верно чувствовало сердце Павла Николаевича! Но теперь, вместо того чтобы ужаснуться, в какой вертеп он здесь попал, среди кого лежал, Русанов поддался заливающему безразличию: пусть Костоглотов; пусть Федерау; пусть Сибгатов. Пусть они все вылечиваются, пусть живут – только б и Павлу Николаевичу остаться в живых.
Маячил ему капюшон простыни.
Пусть они живут, и Павел Николаевич не будет их расспрашивать и проверять. Но чтоб они его тоже не расспрашивали. Чтоб никто не лез ковыряться в старом прошлом. Что было – то было, оно кануло, и несправедливо теперь выискивать, кто в чём ошибся восемнадцать лет назад.
Из вестибюля послышался резкий голос санитарки Нэли, один такой во всей клинике. Это она без всякого даже крика спрашивала кого-то метров за двадцать: