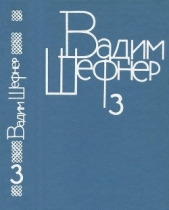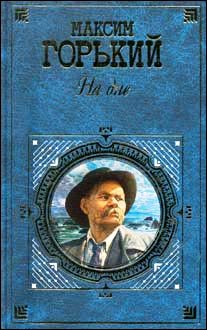Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917

Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917 читать книгу онлайн
В десятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1910–1917 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Сказки об Италии», «Романтик», «Жалобы», «Мордовка», «Н.Е. Каронин-Петропавловский», «Три дня», «Случай из жизни Макара», «Русские сказки». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Большая часть их в последний раз редактировалась писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Остальные произведения включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения М. Горький повторно не редактировал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Да-а, — тяжко думает Маков. — Очень стыдно, когда слабость характера, — это очень стыдно!..»
Взойдя на гору, он смотрит вниз: там торчат пять труб, словно выпачканные тиной растопыренные пальцы чудовища, утонувшего в заречных болотах.
Пересечённая зыбкими островами, узкая, капризная река — вся красная, и среди малорослого ельника болот тоже горят красные пятна: вечернее солнце отражается меж кочек в ржавой воде.
Жалко солнечных лучей, — болото от них не красивеет, они бесследно тонут в кислой, гниющей воде бочагов.
«Надо идти!» — приказывает Маков сам себе.
Но — задумчиво стоит еще минуту, две…
У ворот дома его встречает Васягин — человек костлявый, лысый и кривой. Чтобы скрыть безобразную яму на месте правого глаза, он, выходя на улицу, надевает тёмные консервы, и за это слобода прозвала его Пучеглазым Вальком. Под горбатым носом у него беспорядочно растут жёсткие, седые волосы, в праздник он придает им вид усов, склеивая чем-то, отчего губы Валька, съёжившись, принимают такую форму, точно сапожник непрерывно дует на горячее.
Но сейчас его рот раздвинут любезной улыбочкой, и Валёк шепчет зятю:
— Паз-звольте субботнее!
Павел, сунув ему двугривенный, идёт на маленький дворик, заросший травою: в углу двора, под рябиной, накрыт стол для ужина, под столом старый пёс Чуркин выкусывает репьи из хвоста, на ступенях крыльца сидит жена, широко расставив ноги; трёхлетняя дочка Оля валяется на притоптанной траве — увидала отца, протягивает грязные лапки, растопыривая пальчики, и — поёт:
— Папа-па! Папа приша-а!
— Что поздно? — спрашивает жена, подозрительно оглянув его. — Все ребята давно уж прошли…
Он незаметно вздыхает, — всё как всегда. И, щёлкая пальцами под носом дочери, виновато косится на выпуклый живот жены.
— Умывайся скорее! — говорит она.
Он идёт, а вслед ему градом сыплются ворчливые слова:
— Опять отцу на водку дал? Тыщу раз просила — не делай этого! Ну конечно, что же для тебя все мои слова… я — не из товарок, по собраниям ночами не шляюсь, как ваши блудни…
Павел моется, стараясь набить себе в уши побольше мыльной пены, чтобы не слышать эти знакомые речи, а они сухо вьются около него и шуршат, подобно стружкам. Ему кажется, что жена строгает сердце его каким-то глупейшим тупым рубанком.
Он вспомнил первые дни знакомства с женой: ночные прогулки по улицам города, в морозные лунные ночи, катанье на салазках с горы, посещение галёрки театра и славные минуты в залах кинематографа, — так хорошо было сидеть во тьме, плотно прижавшись друг ко другу, а перед глазами трепещет немая жизнь теней, — трогательная до слёз, до безумия смешная.
Тогда были тяжёлые дни: он только что вышел из тюрьмы и увидал, что всё разбито, затоптано, восторженно рукоплескавшие — злобно свищут тому же, что вызывало их восторг…
Кудрявая сероглазая Ольгунька треплется около его ног, распевая:
— Па мина лубить, па — куку кубить и лосаду кубить, затла, за-атла…
Он стряхивает с пальцев воду в личико дочери — девочка хохочет и катится прочь от него, он ласково говорит жене:
— Брось, Даша, не ворчи!
Ольгунька с трудом поднимает вверх тяжёлую старую голову Чуркина, приказывая ему:
— Смотли! Ну, смотли-и!
Пёс нехотя мотает головою — насмотрелся он! И, широко открыв пасть, коротко воет.
— Когда муж такой разумник, что ему товарищи дороже семьи… — неуёмно строгает душу жена. Павел стоит среди двора, в открытую калитку видна бесконечная лесная даль. Когда-то он сидел с Дашей на лавочке у съезда и, глядя в эту даль, говорил:
— Эх, заживём мы с тобой…
«Это потому, что она теперь беременная», — утешает он себя, взяв дочь на руки.
Маков молча садится за стол, дочь влезла к нему на колени, расправляет пальчиками влажные кудрявые волосы бороды отца и бормочет:
— Оля затла поша и папа, и мама дале-око! На исвочике — ну-у!
— Перестань, Олька! Надоела ты мне за день! — сурово говорит ей мать.
Павлу хочется треснуть жену по лбу донцем своей большой ложки, треснуть так, чтобы звучно щёлкнуло на весь двор, чтобы и на улице слышен был этот сочный звук. Но он сдерживает своё желание, хмурясь и укоризненно напоминая себе: «Сознательный человек…»
Пришёл тесть, сел за стол и, блаженно растянув тонкие свои губы по костлявому лицу, вытащил из кармана полубутылку.
— Начинается! — говорит Даша, фыркая, точно кошка. Маков опускает голову, чтобы скрыть улыбку: ему знаком ответ Валька:
— Не начамши — не кончишь!
Так и есть. Одинокий глаз старика смешно вертится, следя, как булькает водка. Выпив, он смачно щёлкает языком, Чуркин назойливо смотрит в лицо ему, — и сапожник говорит собаке:
— Тебе — не дам. Будешь водку пить — ругать тебя будут.
И эти слова тоже знакомы Павлу. Тут — всё насквозь знакомо.
Жена ворчит:
— Мечешься, мечешься день-деньской, — шить, стряпать, стирать, — а она, дрянь, кричит через забор — огурцы воруют…
Она — большая, пышная, лицо у неё круглое и такой славный, белый, гладкий лоб. Уши маленькие, острые и приятно шевелятся.
Но сейчас она не очень красива: нечёсаная голова кажется огромной, спутанные, не однажды склеенные потом и пылью волосы закрывают лоб и уши, нос, раздуваясь, сердито сопит, а большие красные губы — словно опухли со зла. Когда прядь волос лезет ей в рот — Даша откидывает её прочь черенком ложки. Замазанная кофта разорвана подмышкой, плохо застёгнута на груди. Розовые круглые руки, по локоть голые, расписаны тёмными полосами грязи. И на крутом подбородке висит рыжая капля кваса.
«Причесаться, умыться недолго», — мельком соображает Павел.
Она причешется завтра, после обеда, наденет полосатую жёлто-зелёную кофту, лиловую юбку. Юбка вздёрнется на животе у неё, и будут видны полусапожки на пуговицах и даже полоска чулок — чёрных, с жёлтыми искрами, — это её любимые чулки, она очень радовалась, когда купила их.
Вечером она, рядом с ним, понесёт живот свой по главной улице города, губы её строго поджаты, брови внушительно нахмурены. Всё это делает её похожей на лавочницу, и — когда встретятся товарищи — Павлу будет казаться, что в глазах у них играют насмешливые и обидные искорки.
Ему становится жарко, точно кто-то невидимый, но тяжёлый противно обнял его душным, тёплым объятием; ему хочется думать о другом — думать вслух.
— Сегодня в обед Кулига, табельщик, рассказывал о французских электротехниках…
Жена начала есть более торопливо, а тесть — медленнее. Губы его вздрагивают, а лицо и лысина наливаются тёмным смехом.
— Это — организация! — мечтательно говорит Павел.
— Ну, а как в Германии? — сладковатым голосом спрашивает Валёк, поднимая глаз в небо.
— Там — хорошо; там партийный аппарат работает, как машина…
— Слава те господи! — говорит старик. — А я уж беспокоиться стал — всё ли, мол, в порядке, у немцев-то?
Голос Валька взвизгивает, а Павел — смущён: он уже знает слова, которые посыплются сейчас сквозь тёмные, расшатанные зубы старика. Вот он надул щёки, склонил голову вбок, как ворона, и, упираясь глазом в лицо зятя, — тонким голосом ехидно поёт:
— Стало быть — всё превосходно в Германии? А — в кармане?
И хохочет, подпрыгивая на стуле. Ольгуньке тоже весело, она хлопает в ладоши, роняя ложку под стол, мать щёлкает её по затылку и кричит:
— Подними, дрянь!
Девочка плачет, тихо и жалобно, отец, прижав её к себе, оглядывается: уже сумерки, час, когда тёмное и светлое, встретясь, сливаются в серую муть. Где-то поют холостяки, доносится назойливый звук гармонии, а вокруг Павла, точно летучие мыши, вьются слова тестя:
— Нет, вы не о Германии, а о кармане помечтайте, я вас прошу! Женились — так уж вы о кармане, пожалуйста, да-а! Уж если дети посыпались — устройте для них прочное отечество, а оно — на кармане, на тугом, строится, да, да!
Маков, укачивая задремавшую дочь, думает о тесте: четыре года тому назад он знал Валька другим человеком, помнит, как на митинге в кирпичных сараях сапожник, смахивая с глаз мелкие слёзы, кричал: