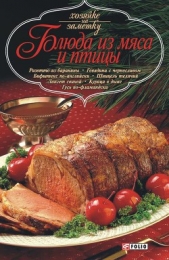Кровавый пуф. Книга 2. Две силы

Кровавый пуф. Книга 2. Две силы читать книгу онлайн
Первый роман знаменитого исторического писателя Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы» уже полюбился как читателю, так и зрителю, успевшему посмотреть его телеверсию на своих экранах.
Теперь перед вами самое зрелое, яркое и самое замалчиваемое произведение этого мастера — роман-дилогия «Кровавый пуф», — впервые издающееся спустя сто с лишним лет после прижизненной публикации.
Используя в нем, как и в «Петербургских трущобах», захватывающий авантюрный сюжет, Всеволод Крестовский воссоздает один из самых малоизвестных и крайне искаженных, оболганных в учебниках истории периодов в жизни нашего Отечества после крестьянского освобождения в 1861 году, проницательно вскрывает тайные причины объединенных действий самых разных сил, направленных на разрушение Российской империи.
Книга 2
Две силы
Хроника нового смутного времени Государства Российского
Крестовский В. В. Кровавый пуф: Роман в 2-х книгах. Книга 2. — М.: Современный писатель, 1995.
Текст печатается по изданию: Крестовский В. В. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3–4. СПб.: Изд. т-ва "Общественная польза", 1904.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уж между тем дополз до стула, на котором сидел Холодец, приготовивший ему тем часом блюдцо сливок с моченым сухариком да с сахаром, и остановился, растянувшись на полу, и пытливо приподнял, поводя в стороны, свою довольно красивую головку.
— Ну, ну, ступай сюда! Ползи, ползи! — проговорил доктор, нагнувшись со стула и подставив ему свою ладонь, на которую уж, поводя головкой, тотчас же вполз самым дружелюбным, безбоязненным образом.
— Он ведь у нас ученый тоже, цивилизованный! — ласково говорил Холодец. — Ну, видишь, брат, свою порцию?.. а?.. видишь?.. чувствуешь?.. Ну, проси, проси и кланяйся, как следует благоприличному джентльмену!.. Проси!..
И уж, очевидно приученный к пониманию некоторых движений и слов своего хозяина, расположившись очень удобно и цепко на руке и обшлаге сюртука, вдруг приподнялся вверх, почти до половины своей длины, и, раскрыв свою пасть, зашипел и, очень красиво, очень грациозно изгибаясь своим телом, сделал два раза движение, которое действительно весьма комично напоминало поклон.
— Ну, вот так! Молодец, молодец! — хвалил его доктор; но вдруг, заметив, что Хвалынцеву как будто нервно-неприятно видеть это животное, обратился к своему денщику. — Ибрагимов, возьми-ка, брат, Василиска Иваныча, покорми там его.
— Ну, ты, Божья гадина, ходи сюда, ходи, брат! — промолвил денщик, принимая из бариновых рук ужа и блюдце со сливками. — Пойдем-ка, покормимся!
И он унес его из комнаты, причем уж, не выказав ни малейшего беспокойства, привычным образом обвился вокруг руки Ибрагимова.
"Вот человек-то: и люди, и животные любят его. Всем-то он симпатичен!" добродушно подумал себе Хвалынцев, и под влиянием этой последней мысли, вдруг сказал ему:
— Послушайте, Холодец, а ведь вас должно быть дети очень любят.
— Почему же вы так думаете? — с улыбкой удивления отозвался доктор.
— Н-не знаю, но мне так кажется.
— Да, — подумав несколько, ответил тот, — меня действительно любят дети и собаки. Да только они одни и любят.
— А люди? — спросил Константин.
— Люди?.. Как вам сказать? Всяко случается: одни любят, а другие и куда как не жалуют! Да это, впрочем, что же? По-моему это уж значит совсем плохой человечишко, которого будто бы любят все без исключения. Это значит, что в сущности его никто не любит.
— А пожалуй, что и правда! — подумав, согласился Хвалынцев.
— Скажите-ка мне лучше, — перевел разговор доктор на другой предмет, — какими судьбами вы это вдруг у нас в Гродне очутились?
— Да так вот, проездом в Варшаву… Захотелось поглядеть, что это за города в здешнем крае?
— За границу верно едете?
— Нет, я в самую Варшаву… на службу еду.
— О? Это дело хорошее! Русским людям хоть и плохо там теперь, но они нужны. Место имеете, что ли?
— Н-нет, я… я ведь в военную, — сказал Хвалынцев, и вдруг почему-то почел нужным сконфузиться.
— Да?! — отозвался доктор с некоторым удивлением. — Что ж, это дело хорошее!
— Вы находите? — с какою-то безразличной и гибко-понимаемой улыбкой заметил Константин Семенович.
— Я-то? Да я что ж?.. Я нахожу, что всякая вообще честная служба есть хорошее и полезное дело, — пожал Холодец плечами.
— Н-ну, знаете, не все так смотрят на военную собственно…
— То есть в каком же это отношении? — остановился против него доктор.
— Да так; ведь существует мнение, что военная служба это так сказать "агентура грубой силы кулака", "поддержка деспотизма" и пр.
— Ну-у! — махнул рукою Холодец. — Знаем мы, слыхали когда-то эти песни! Дескать, полезнее и гуманнее сабли и штыки перековать и перелить на скоропечатные машины. Оно, конечно, слова нет, что гораздо полезнее, да ведь для этого надо подождать, когда прекратится Дарвиновский закон борьбы за существование и когда, значит, на земле алюминиевый век настанет.
— Какой, какой? — с живостью переспросил Хвалынцев.
— Алюминиевый, говорю. Были ведь, как знаете, века: золотой и медный, ныне стоит, как молвят мудрецы, железный, а в будущем грядет "самый цымис", говоря по-жидовски, то есть алюминиевый.
— Это что ж такое? — усмехнулся Константин.
— А это значит, когда люди станут жить в алюминиевых дворцах, ровно как теперь солдаты в казармах, и когда потекут молочные реки в берегах кисельных, а с неба станет медовый дождик капать и вместо снега повалят клочья американского хлопка. Да неужто же вы не знаете этого двенадцатого члена нигилистического символа веры?
— Как не знать! Но что же, это одно из самых светлых упований! — решился мягко возразить Константин Семенович.
— Кто говорит! Да только вот беда: жить-то в этих алюминиевых казармах по заведенным часам невыносимо будет для живых людей! Ведь это отсутствие увлечений, эта безошибочность, размеренность, эти положенные часы приливам и отливам, они ведь всякую самостоятельность, всю независимую, свободную личность человеческую в прах стирают. Ведь это все равно, что сказать себе: "я свободный раб", — ну, что это выйдет? Полнейший абсурд! Ведь жить таким образом, это все равно, что весь век маршировать по ровно укатанному плацу или твердить таблицу умножения. Куда как весело! Не знаю, как вы, а я от такого удовольствия, ради столь прелестной жизни, на первой же осине удавился бы!
— Стало быть, вы нисколько не верите в наши, так называемые, "нигилистические теории"? — спросил Хвалынцев.
— Каюсь! грешный человек! даже ни одной минуточки не верил! — с покаянным видом развел руками Холодец. — Я слишком практически положителен; даже… даже слишком материалист для того, чтобы веровать в такую ерунду! Ведь новейший нигилизм — он, в сущности, очень сродни средневековому фанатическому мистицизму. Все эти алюминиевые казармы, вся эта нетерпимость — разве это не пахнет тем же мистицизмом? Идолы только как будто переменились, а подкладка, реальная сущность дела все та же осталась.
— Стало быть, отчуждаясь от них, вы их презираете? — немножко некстати спросил Хвалынцев.
— Я! — расширив на него глаза, остановился Холодец. — Я?! Боже меня избави! Я слишком толерантен для этого! Есть, конечно, между ними много мерзавцев, которым, по-настоящему, прямое бы место в остроге между негодяями и мошенниками, но есть и много честных, высокочестных идеалистов! И за что же их презирать или ненавидеть?.. Разве можно, например, презирать нам Савонаролу — этого фанатического мистика и католика — за то, что он за свои убеждения бесстрашно взошел на костер!.. Да Боже меня избави от этого!.. А между этими есть тоже своего рода маленькие Савонаролы. Это ведь — все то же вечное стремление человеческой души к отвлеченному идеализму, и если они теперь клянутся не иначе как Льюисом, Бюхнером и Молешоттом, так это значит только, что они вместо Николы-Святителя молятся Симеону Столпнику, а еще больше оттого, что они добренькие дурачки и не понимают того, чем клянутся. И знаете: как те, мистики, наделали много зла людям в свое время, так и эти могли бы его наделать, дай лишь волю! — Трезвый человек никогда не пойдет вместе с ними!
— А с кем же? — спросил несмело, удивленный этими речами, Константин Семенович.
— С кем? — С своим живым народом, к которому он принадлежит плотью и кровью и всем своим нравственным складом; а если уж нет под ним этой своей прирожденной почвы, так трезвый человек уж лучше ни с кем не пойдет, а сам по себе будет.
— И ничего с него не будет! — улыбнувшись, заметил Хвалынцев.
— Ну, и ничего с него не будет!.. Это хоть и плохо, а по-моему, все же лучше, чем распинаться за метафизику такого рода, как, например, отчего вместо снега не сыплется хлопок, который пригрел бы бедняка-рабочего? распинаться, когда под рукою есть насущное дело, и тем только портить его.
Хвалынцева в то время поразил подобный взгляд на людей, к которым не без некоторого гордого самодовольства он и себя причислял отчасти, и если не причислял совсем, то только потому, что, ставя их очень высоко в своем мнении, где у него были намечены яркие имена некоторых передовых двигателей этого направления, — он считал себя пока еще недостойным развязать даже ремня от сандалии их, — и вдруг такой неожиданный взгляд встречает он на этих людей у человека, которому, казалось бы, самому, уже только как медику и потому материалисту, следовало принадлежать к их лику! Но этот человек вдруг обвиняет в крайнем идеализме людей, распинающихся, по-видимому, за материалистические теории, и попросту, без церемонии титулует их жалкими глупцами и невеждами. А между тем, не принимая уж в соображение Ардальона Полоярова, Анцыфрика, Лидиньку Затц и им подобных, но останавливаясь только на лучших, на светлых экземплярах этого направления, он не мог не сознаться, что в беспощадном взгляде доктора Холодца лежит очень много неотразимой правды.