Том 9. Три страны света
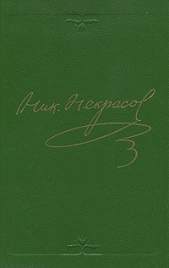
Том 9. Три страны света читать книгу онлайн
Роман «Три страны света» написан Н.А. Некрасовым совместно с А.Я. Панаевой. Сюжетную канву произведения образуют странствования по России — от Новой Земли до Каспия, от Новгородской губернии до русских владений в Америке — молодого дворянина Каютина, обратившегося к промышленной деятельности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Являлся больной мужик. Расспросив его подробно, Ласуков (так звали старика) писал ему рецепт и говорил:
— Ступай в аптеку: там лекарство дадут.
Мужик уходил в мезонин, где помещалась аптека. Ласуков поспешно переодевался в аптекарское платье и шел по теплой лестнице тоже в аптеку. Там, угрюмо кивнув мужику головой, он приготовлял лекарство и ломаным языком давал своему пациенту приличное наставление; потом спускался в свою комнату, переодевался по-старому и требовал к себе мужика.
— Был у аптекаря? — спрашивал он угрюмо.
— Был, батюшка, — отвечал мужик, едва удерживая улыбку.
— Что же он?
— Да лекарство дал.
— Покажи!
Мужик показывал лекарство.
— А что он тебе говорил?
— Да то и то, батюшка. Квасу, говорит, не пей, и вина тоже…
— А ты ему что?
— Не буду, говорю, не буду, кормилец.
— А он тебе что?
— Редьки, говорит, не ешь, луку в рот не бери… знаю я вас, говорит, дураков: как придет плохо, так рад в ноги кланяться, а как немного отойдет, так и пошел опять все убирать.
— А ты ему что?
— Вестимо, говорю, батюшка, вестимо…
— А он тебе что?..
И так далее.
Расспросы продолжались иногда по целому часу, причем Ласуков немало употреблял стараний втолковать пациенту наставления, данные в аптеке.
— Понял? — спрашивал он в заключение.
— Понял, батюшка.
— Ну, так говори.
Мужик сбивался. Ласуков начинал снова и потом требовал повторить. Таким образом, расспросы часто действовали как потогонное средство, и пациент уходил совершенно здоровый.
Каютин скоро убедился, что если покинуть дядюшку на жертву осенней скуки и мнительности, то он залечит себя в несколько месяцев, и потому решился пожить у старика.
Надо признаться, что была тут и другая причина: племянник думал, что авось-либо богатый дядюшка, бездетный и не любивший своих родных, не забудет его в своем завещании. А жить старику, по всей вероятности, оставалось недолго.
Но решимость Каютина дорого ему стоила. Скука у дяди была смертельная. Развлечений никаких, местность унылая, пища самая скромная, работа языку беспрестанная. То читай Удина, Пекина и Энгалычева, то развлекай старика рассказами: в последнем случае Каютин хоть замечал с отрадой, как лицо старика постепенно одушевлялось и бесчисленные болезни, изобретенные праздной мнительностью, одна за другой покидали его. Не последним делом в деревенской жизни Каютина было также удивляться пагубной белизне языка своего дядюшки. К довершению бед Каютин даже не мог спать спокойно: как только старик поднимет ночную тревогу, Анисья — весьма полная и краснощекая домоправительница, которой вообще не нравилось появление племянника в дядином доме, — тотчас вбегала к спящему Каютину и кричала благим матом над самым его ухом: «Благодетель-то наш! кормилец-то наш!..» Такие всхлипыванья продолжались, пока, наконец, Каютин просыпался и с ужасом кричал:
— Что?
— Кончается, совсем кончается! уж, может, таперича и скончался!
Каютин бежал в комнату дяди. Тревога, разумеется, была пустая.
— У тебя сегодня что-то цвет лица нехорош, — говорил иногда Ласуков своему племяннику, — уж не болен ли ты?
— Нет, ничего, дядюшка, — весело отвечал Каютин.
— Ты хорошо спал?
— Хорошо.
— А что ты видел во сне?
Каютин смущался и медлил ответом: всю ту ночь ему грезилась Полинька; но он не хотел посвящать дядю в свои тайны.
— Ну, так и есть! — восклицал проницательный старик. — По лицу видно: тебе снились дурные сны, только ты не хочешь сказать.
— Ах, дядюшка, не дурные, ей-богу, не дурные, отличные!
— К чему лукавить? — возражал дядя. — Я тебя насквозь вижу!
— Ну, не совсем, дядюшка!
— Уж поверь, что совсем…
— Ну, так отгадайте сами, что я видел?
— Известно что: тебе грезились чудовища… звали тебя куда-то, протягивали страшные руки, сжимали твою шею.
— Так, дядюшка! точно, были руки, только не страшные, право, не страшные… и шею сжимали.
— Дрожь пробегала по твоему телу, — подхватывал дядя, — и ты просыпался.
— Точно дядюшка… и дрожь пробегала… и я просыпался.
— Ну, вот видишь! — самодовольно говорил старик. — А покажи-ка язык… Так и есть, — продолжал он, осмотрев язык племянника, — по краям и с концов туда и сюда, а середина совсем белая. Плохо! надо захватить заблаговременно.
Старик на минуту задумывался.
— Удин, Пекин, Энгалычев и я, мы полагаем, — говорил он с докторской важностью, — что в таких случаях полезно, согрев внутренность больного, посадить его на диету. Выпей мяты да не обедай сегодня!
— Помилуйте, дядюшка! — с испугом возражал Каютин: — да мне уж теперь есть хочется.
— Ну, конечно! теперь я нисколько не сомневаюсь, что ты в опасности. Ложный аппетит самое…
— Ложный аппетит?! нет! уж извините, дядюшка, не ложный! Дайте-ка мне пулярку с трюфелями да бутылку лафиту, так я вам докажу.
— Тебе, в твоем положении, лафиту, пулярку с трюфелями! нехорошо, нехорошо! Ты вот посмотри на меня: я как болен, так меня и силой не заставишь съесть вредного: сижу себе на одних сухарях.
Каютину становилось смешно. Старик в болезни точно не обедал и не ужинал, но утром и вечером подавали ему чашку чаю, которая походила больше на полоскательную, чем на чайную; он всыпал туда фунта три сухарей и, уничтожив одну такую порцию, часто требовал другую. В такие дни говорилось: барин сидит на одних сухарях.
— Что, тебе жизнь мила? — ласково спрашивал старик своего племянника.
— Как же, дядюшка.
— Умереть не хочешь?
— Нет.
— Ты меня любишь?
— Люблю.
— Уважаешь?
— Уважаю.
— Веришь моей опытности?
— Верю.
— Знаешь, что я тебе дурного не посоветую?
— Знаю, — робко произносил племянник.
— Ну, так не обедай сегодня.
Каютин не обедал, а вечером с ожесточением нападал на дядюшкины сухари. И много подобных жертв приносил племянник своему старому, богатому и бездетному дядюшке; но толку, однакож, не выходило, и не могло вытти. Каютин не принадлежал к людям, способным при случае совершенно стираться с лица земли: иногда он был и внимателен и уступчив с своим дядей, а в другой раз заспорит, вспыхнет, наговорит старику кучу горьких истин — и все дело испортит. И такие сцены стали повторяться тем чаще, чем сильнее томила его осенняя деревенская скука и чем злее будила его по ночам Анисья, приглашая просидеть ночь у одра умирающего дяденьки, который, впрочем, и не думал умирать. Каютин, наконец, начал догадываться, что ему тут ничего не добиться. В то время кстати явилось письмо Полиньки. Великодушная девушка, не желая убивать бодрости в своем женихе, ничего не написала ему о своих несчастиях и только умоляла крепиться и не губить даром времени. Письмо так подействовало, что Каютин в тот же день простился с дядей, к явному торжеству Анисьи. К счастию, старик был тогда в щедром расположении (а надобно знать, что приливы скупости и расточительности находили на него полосами) и сам предложил племяннику немного денег.
— Спасибо, дядюшка! я вам непременно возвращу, как только дела мои поправятся.
— Нет, ты лучше, как попадешь в Петербург, пришли такую трубку и такой ланцет, чтоб можно было самому…
— Хорошо, дядюшка, пришлю!
— Да еще Энгалычева, новое издание, в хорошем переплете.
— Непременно, непременно… Прощайте, дядюшка!
Глава III
Новые лица
Каютин не без удовольствия сел в широкие пошевни, набитые сеном, и пустился в дорогу. Удовольствие его, впрочем, скоро нарушилось.
Когда подумал он, сколько времени убито даром, когда вспомнил, сколько вынес скуки и принуждения, сделал бесполезных уступок, сколько подавил в душе своей справедливой желчи, — горячий пот прошиб его с головы до пяток. Снег валил хлопьями, к явному неудовольствию лошадей, которые отдувались и сердито фыркали; много мелькнуло и исчезло унылых деревень, бесконечных обозов, усадьб, обнаженных, печальных лесов, — а Каютин все лежал лицом к подушке, будто стыдясь смотреть на свет божий. Во второй раз, и сильнее чем в первый, почувствовал он безрассудство своего поведения, увидел ясно необходимость труда и мысленно поклялся посвятить ему все свои силы. Он читал и перечитывал письмо Полиньки, прижимал его к губам полузамерзшей рукой и много раз повторял свою клятву. Уж не для одного счастья хотел он теперь денег: стыд торжественно признать свое бессилие, свою неспособность также громко говорил в нем.

























