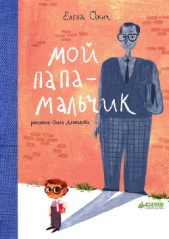Мой папа убил Михоэлса

Мой папа убил Михоэлса читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Гусаров - так себе,- сказал Исаич,- а вот его бабушка - какая музыкальная речь! Мы же не говорим, а каркаем...
У бабки нет простонародного выговора, на украинском она отвыкла говорить.
- Попала я маненькая в пятнадцать лет в пьяную русскую семью...
Поволжского "о" у нее тоже не слышно, видно, царицынские, саратовские и астраханские не окали. Словом, церковные книги тому причина, или еще что, но только нашим вождям неплохо бы поучиться у нее русскому языку. Лишь однажды я услышал от старухи с приходским образовани-ем украинизм:
- В Николаевке открыли нафту и бурлят ее, и бурлят...
Жаль, что я до Исаича не записывал ее выражений: "брыляет" означает брызжет, "набукла" - набухла, водой пропиталась. "Я не слышу ничего, а тут заходит милиционер без стуку, без грюку" (Казакова она не читала, Блока тоже, но говорит: "А на улице такая вьюга поднялась".) Умер человек не слишком похвального поведения. Бабка, сжав губы, кивает сама себе и говорит:
- Пошел на пекло скворчать.
Видимо, уже в городской жизни услышала слово "бюст" (не вождя, а женская грудь), но поскольку их две, она говорит:
- Я тогда молодая была, бюсы у меня большие были. А турок на меня смотрит: "Карош москов, карош".
- На тебя? - переспрашиваю я с сомнением.
Она скромно потупляет взор.
Как-то я на нее наорал, она отвернулась, разобиделась. А я поостыл, жаль стало старую, подо-шел к ней и поцеловал - чтобы обстановку разрядить.
- Ты чего меня целуешь, ведь сегодня не четверг...
- Причем тут четверг?
- В четверг Иуда поцеловал Христа.
(Кажется, это случилось в среду, но бабка тут ни при чем - так мне запомнилось.)
Любит бабуля рассказывать про младшего брата Георгия, умершего после австрийского плена, хотя, по словам бабки, жилось ему там неплохо, учил детей австрийского офицера. Но самый частый рассказ - про Палестину. Недели две хлопотала, да так, не дождавшись разрешения губернатора, и уехала. Почти год там провела - из дому запаслась мешком муки да ведром постного масла, семья-то у них была - ни тебе движимости, ни тебе недвижимости, один только гнет вековой... (Поди-ка теперь попутешествуй.) Больше всего она говорит о Христе, о святых. Слушая ее рассказы об Иосифе Прекрасном, о Суламифи, о царе Соломоне, я принимаюсь донимать старуху:
- Бабушка, так ведь и Христос еврей.
Она, поспорив и попрепиравшись, в конце концов изрекает:
- Тогда, Володя, время такое было - все тогда евреями были.
Один из ее рассказов - про Николю-дурачка - я записал. Он был найден славными чекистами во время повальных обысков после ареста Якира. Потом, когда дело Якира-Красина закрыли, какие-то пустяки вернули, в том числе и бабкин рассказ (фотографии оставили на память). Сейчас я опять не могу его найти, видно засунул куда-то, так что буду передавать по памяти, по возмож-ности, бабкиным слогом, а не своим "каркающим". Приятно сознавать, что он уже прошел цензуру, так же, как "Голос из хора" Терца-Синявского.
НИКОЛЯ - ДУРАЧОК
- И-и-и! Так ты что? Против властей? - бабушка неодобрительно мотает головой.- Власти - это дело не наше. Всякая власть от Бога!
- Понимаешь, бабуля, я давно чувствую, что хоть и не доживу, но на Старой площади еще будут выкидывать из окон письменные столы. Пузырь, сколько ни раздувай, а когда-нибудь да лопнет!
Бабка вдруг оживляется и говорит торопливым шепотом:
- Знаю! Это я лучше тебя знаю! Это еще Николя-дурачок предсказал! - и не дожидаясь моих расспросов, начинает: - Бегал Николя-дурачок по Слободе, как Василий Блаженный, когда и босой, когда и без шапки. Если кто похвалит его одежу - норовил снять с себя и отдать, но разумные люди старались его покормить и что-нибудь дать. Знали его и в Камышине. Цвиркуни-ха, его племянница, возила его туда к своей тетке, к его сестре. Они и родом оттуда, и реальное Николя там кончил - ученый человек по тем временам был! Тогда гимназии были только в Саратове и в Сталинграде (так именно она и сказала, но простим ей - полгода осталось бабушке до девяноста пяти). Поставили его начальником станции в Покровском, Енгельс теперь. Человек он был степенный, хотя и холостой, но... впал в буйство. Увезли его в Саратов, в дом сумасшед-ший, в Сталинграде такого дома не было, а мы, хотя и сталинградские, а нам одинаково - в Саратове и Маруся училась, и Георгий помер, и я в больнице лежала...
- Ой, бабка, ты про это уже...
- Да... Пробыл Николя в Саратове лет пять, потом родственники получают письмо: заберите вашего больного! Приехали. Там вроде как больница - и врачи, и санитары, и монахини. Говорят: буйствовать больше не будет, но и в ум не придет, хотя он, может, умнее нас всех. Врач однажды к нему подошел, за руку взял, ну, этот, пульс, щупать. "Как ты сегодня, Николя, спал?" - "Я спал здесь, а ты где?" Врача смущение взяло: как бы Николя не рассказал при санитарах, что он не дома ночевал.
Цвиркуниха, мать Кирика, ему племянница, так что он жил в нашем дворе, она ему печку отвела, потом пришлось скамеечку ставить, чтобы пришедшие могли с ним разговаривать: сколько, мол, проживу, да какой урожай будет, пора ли сына женить... Николя много не говорит - буркнет два-три слова и под тулуп. В Камышине, у другой племянницы его, родилась девочка. Окрестили ее, принесли и пошли в другую горницу - обмывать с крестными. Гуляли-гуляли, захотели взглянуть на дите, открыли, развернули белые новые пеленки, а дите все золой обсыпано. В углу Николя забился - ну, кому еще такое натворить? Спрашивают: "Николя, ты чего наделал?" - "Ничего не наделал, земле предал." Через месяц девочка и умерла. Я еще замужем не была, чужих детей нянчила, да по улице с девчонками гойкала, у нас к празднику Казанской Божьей Матери готовились - в управе убирались, церковь наряжали. Николя заглянул в управу и сказал: "Рома-новы блины печь собираются!" Потом в церковь сунулся: "Романовы блины печь собираются". Никто из уборщиц в толк не возьмет, что он бормочет, а он опять свое; да так ясно, громко сказал: "Романовы блины пекут!" Тут уж сомнение многих взяло: какие блины? какие Романовы? Пошли в управу, а там уж служащие собрались, у них только что депеша получена: государь скончался. Блины пекут - значит, к поминкам готовятся... Меня он звал Федопся Андревна, а я уж, бай дюже, как зовет, так и зовет. Когда наши собрались в Палестину, бумаги исправнику подали, я уже вдовая была, муж мне книжку оставил, я струмент продала, а сама шила да свекру гробы красила - сколько раз в гроб ложилась, если покойница моего росту, мне теперь в гроб ложиться не страшно, лишь бы не палили, а то как перед Господом предстану - в виде золы?
- Бабушка, не отвлекайся, ты же про Николю начала!
- Зовут меня с собой богомолки, у них уже разрешение, я тоже подала, но мне нету ответа, потом я узнала - губернатор в Курскую губернюю запрашивал, Гусаровы оттуда приехали после воли... Пошли мы к Николе, спрашиваем: "Поедет ли Андревна в Палестину?" Он голову высунул: "Без Федопси Андревны не уедете!" Ан уехали. Не дождались моей бумаги. Одна на пароход садилась. У меня и баулы, и узлы, и ведро с мешком. А тут пожилой еврей говорит, что билет нужно закомпосировать, а то без места останешься. И обещал вещи мои постеречь. Я тогда молодая была, не знала, что евреев нужно остерегаться, и оставила его стеречь.
- Ну и что?
- Ничего, постерег, пока я компосировала... Приехала в Одессу, а наши там - турок воспы боялся и карантин сделал. Опять по-Николиному получилось - "без Андревны не уедете". В Одессе мне писарь говорит: "Почему губернаторского разрешения нет? Может, ты малолетнего сына бросить хочешь?" Я и не знала, что говорить, а Маруся дала ему три рубля, он и понял, что не брошу, и написал бумагу. Посадили на пароход, бинокель дали...
- Бабушка, ты про Палестину сто раз рассказывала, говори про Николю!
- Ну, а я про кого? Одному купцу, Кириенкову, в его же саду на его скамейке написал и день, и месяц, и год - он в этот день и помер... Когда ерманская началась, Павлючиха, мельничиха, аж за двадцать верст к Николе ходила - Павлюка на войну взяли. "Николя, когда война кончится?" "Третьего ноября". Пришло третье, пятое, десятое - война не кончается. Потом прислали Павлючихе пакет, там написано: "Ваш муж убит третьего ноября". Вот и выходит, что для него и для нее война кончилась. Шуба у Николи была овчинная, ее не в ту краску макнули, красная она стала, ее и подарили Николе, он ей укрывался и в холод надевал. Холодно еще было, приходят люди, а Николя всю шубу разодрал, делает из волосков пучочки и перевязывает их. "Ты зачем это, Николя?" - "Скоро много красных бантиков нужно будет! Нужно побольше..." И верно! Прошло недели две - царя скинули, пристава об столб головой зашибли, и все красные бантики нацепили - кто на грудь, кто на картуз. Много бантиков понадобилось... Даже сахарозаводчик Курылев, сурьезный человек, и тот бантик нацепил. После перевороту пропал он - жену с детьми бросил и убежал, а, может, и сгинул. Года через два пришел к Курыльчихе вдовец свататься, а она не знает: чи вернется хозяин, чи нет. Пошла к Николе, спрашивает: "Увижу ли когда сваво Афанасия Петровича?" - "Ни его, ни могилки его". И пошла Курыльчиха за вдовца. Я потом не раз спра-шивала и в Камышине, и в Слободе: "Не объявлялся ли Курылев?" - "Нет",- говорят. Как-то увидел меня Николя с Николаем, маненьким, три года ему было, но сам ходил, за руку его вела. Николя посмотрел на нас и говорит: "Дети у нас великие, больше нас выросли, ба-альшие люди стали!" И что ты скажешь? Николай каким начальником был! Свой вагон имел, самолет свой, и Ворошилов, и Маленков, и Шверников в гости приезжали, про них и в календарях написано было. Хоть недолго, а поцарствовал... А Василь Васильича и вовсе в кремлевской стене палили, с самыми большими секретарями. Еще когда отец на Урал полетел, я вспомнила Николины слова: "Дети у нас великие, больше нас выросли". Когда деникинцев прогнали, в Камышин Троцкий приезжал на красной трибуне выступать - народу сбежалось - тьма!