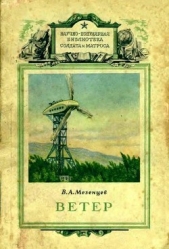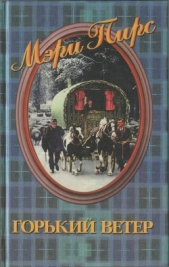Роман-царевич
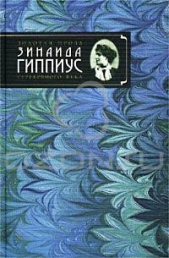
Роман-царевич читать книгу онлайн
Второй том настоящего издания включает в себя самый известный роман 3.Н.Гиппиус `Чертова кукла` (1911) — о мертвенности души современного человека, его продолжение — `Роман-царевич` (1912), отразивший раздумья писательницы о проблемах революционно-религиозного движения; и, наконец, вовсе не известный роман — `Чужая любовь` (1929), затерянный на страницах эмигрантской периодики и с тех пор не переиздававшийся, — о душевном одиночестве русских людей в эмиграции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И он стал читать.
Жизнь Михаила в эти два месяца круто изменилась. То есть он сам изменил ее. Встреча со Сменцевым, Сменцев, каким он его видел и увидел, — все это дало последний толчок, родило нужную уверенность в себе. Выяснилась невозможность оставаться дольше в прежнем, неопределенном и отчасти фальшивом положении.
Тяжело досталась свобода; он не хотел рвать грубо старые, кровные связи, — но они рвались, все равно, и все равно было много чужой боли, чужого непонимания. Самые близкие («солдаты», — сказал бы Роман Иванович, «друзья», — зовет Михаил) — с ним. И он знает, что это недаром, не напрасно. Не обманет их.
На новых путях надо начинать сначала. Но Михаил не боится. Сначала так сначала. Не много их, всех, но и это ничего: люди будут, люди придут, коли есть куда прийти, есть место.
Когда случайно узнал Михаил, что Литта вышла за Сменцева (и когда он поверил) — показалось было, что кругом темно как ночью, а сам он проваливается. Но это не долго длилось. Почти физическим усилием воли отделил свою оскорбленную любовь, свое личное — от неличного и продолжал начатую работу со спокойным напряжением.
Последнее время жалость к Литте, а, главное, ощущение своей вины перед нею тревожили его. Как же не виноват? Разве не оставил ее одну, без помощи, перед таким человеком, как Сменцев? Она влюбилась, — или это странно? Или не видел Михаил, какими очарованиями лжи владел этот человек, очарованиями, похожими на очарования истины? Не понял этого Михаил?
Понял. Но была любовь и вера. Без веры не стоит любить. Вера в женщину — обманна? Ну что ж, может быть, и не стоит любить.
Смутная история убийства Романа Ивановича опять ударила Михаила. Что это такое? Думал, думал, и о Флорентии думал, — вот, кажется, начинает понимать… и опять не знает, опять думает. Чувствовал скрытую трагедию — какую?
К Литте шевельнулось злорадство, и оно испугало: не жива ли любовь? Нет, нет, лучше оставить это все, забыть, узко уйти в свое, в ближайшее, в сегодняшнее, в правдивое и ясное. Всю веру, всю любовь, все уменье — сюда.
Но вот читает Михаил листки, исписанные милым почерком. Низко клонится над ними, читает, читает… осталось только два.
«…знаешь все теперь. О себе нетрудно было писать: о том, что после случилось, — труднее. Но ты видел Романа Ивановича, и как ни мало я знаю о вашем свидании, — верится, что ты этого человека понял. Или хоть начал понимать. Флорентия ведь понял? Может быть, не удивишься очень и случившемуся, поймешь и недосказанное?
Тайна смерти Романа — не секрет, который можно открыть или не открыть, а именно тайна. У кого нет своих глаз для нее, тот ее и не увидит. Любил? Да. Убил нарочно? Да. Или Роман Сменцев был виноват, изменил чему-нибудь, изменил себе? нет, нет! Подумай теперь, могут ли внешние в это проникнуть, поверить. А вот Наташа без слов, одной любовью поняла и знает. (Наташа хочет приехать, я рада. Так ждет ее Флорентий, так нужна она ему, — да и всем нам, верю в нее.) Могут внешние люди, совсем ничего не знающие, думать и так: Сменцев был обычный провокатор, вызвал полицию, Флорентий, узнав, поспешил убить его, нечаянность подстроил. Насколько это грубее и дальше от правды, чем то, что естественно думают все, — неосторожность. Но пускай. Хорошо, что есть настоящая правда и что мы ее знаем, что мы — в ней…
Тебя я увижу, Михаил, тогда, когда буду тебе нужна, когда ты делать начнешь и уверишься, что наше дело — одно. О личных отношениях — теперь ли говорить? Что мы знаем? Их может определить только будущее. Но опять говорю: будет нужно — напиши, передай, и я приеду в указанное место. Сейчас я не хочу оставить Пчелиное, не вправе, так чувствуется. А приехала бы и сейчас, ненадолго, если б надо было, пойми только меня.
Кончаю, много недосказанного, да ведь всего не передашь. Мне бодро, дух у нас здесь хороший. Живем пока с тихостью и мудростью. Флорентий — ясный; иной раз и ужасалась я, и слабела; а на нем ни тени: любовь, должно быть, хранит.
Ну, прощай… до свидания. Верь жизни. Она не обманет. Верь и вере своей, и делам по вере. Прощай».
Глава тридцать девятая
ЗОЛОТЫЕ ЦВЕТЫ
Веселое солнце в дали голубой…
Они увиделись скоро, — скорей, чем думала Литта. Михаил хочет сказать ей живым голосом, что все уже есть, что начало их тяжелой и сладкой работе положено, — хочет услышать и ее живой голос.
Надо о ближайшем условиться. Не ждет работа.
Они съехались, на краткие часы, в забытом городке с острыми темными крышами, не русском, но недалеко от России лежащем. Тихий домик на выезде; поля, широкие, видны из окон. Точно улыбаются поля желтыми цветами — их раскрыло весеннее солнце. А над цветами, вверху, в лазоревой и золотой пустыне, смеются пронзительно, как играющие дети, — жаворонки.
Сегодня Литта уедет назад, в Россию. Флорентия Михаил станет ждать к июню. Наташа уже в России.
У раскрытого окна стоит Литта, смотрит в поля, в небо.
— Какая весна здесь! А у нас только небо стало выше, на солнце сосульки длинные, дорога лоснится, а поля еще белы-белы.
Очень изменилась Литта: похудела, — или от черного платья кажется? Точно выросла. Загоревшее от воздуха лицо — резче; нет в нем прежней фарфоровой нежности, в глазах нет детской печали: глаза ясны и жестки. Она ли — милая, беспомощная девочка?
Она, потому что к ней — любовь. Но и любовь ломается: крепче, осторожнее, человечнее становится. И затайнее: о любви не говорили они совсем.
Лицо у Михаила серьезное, строгое. Думает о чем-то, соображает.
— Мне придется в Петербург сначала. Ненадолго. Люди там есть. Потом посмотрю…
— Да, да, не торопись, — обернулась Литта. — Поговори с Флорентием. У нас теперь тихо, да пусть хорошенько уляжется. Петербург сейчас важнее.
— А знаешь… — он сжал брови, — мне все-таки Пчелиное твое… не то, что неприятно, а смущает меня. Я реалист, и вера моя, большая ли, малая ли — прямая, определенная. Так я и дело понимаю. А у вас, среди них — странно! — будто носится еще мутный, извилистый дух Сменцева… Ты говорила, они до сих пор не верят?
— Чему?
— Да вот, что его нет, что он… умер? Я понимаю, обстановка была такая… слухи могли родиться. Но уж не слухи, — это начало легенды… Не умер! Ведь знают же, что умер?
— Знают. Да, есть такие, я подмечала: знают и точно не верят. Сложно это, загадочно, Михаил. Надо приглядываться, подходить бережно-бережно…
— А Флорентий — как с ними?
— Он говорит, что сам думает, на их языке говорить умеет. Никогда дурно о Романе, а так, будто Романа и не было никогда, есть один Хозяин, настоящий, его они любят, его помнят и слушают.
— Видишь, видишь, — заволновался Михаил и даже встал, подошел к ней ближе. — Не мог бы я так. Флорентий в мистику перегибает, или не опасно? Я бы прямо говорил, — и буду! — что вот такой Роман — самозванец, что не может, не смеет единый человек властвовать над многими, другими людьми, что покорность, и веру, и ту любовь, какой он добивался, можно только Богу отдавать… И что умер самозванец, убит, и так должно, так нужно…
— Постой, постой… — останавливала Литта. Но он не слушал.
— А сам Флорентий? Ты говоришь — ясный он. Марево рассеял! Нет, тут не мистика, не марево рассеял — живого человека он убил! Пусть было неизбежно, другое дело, но как же всей реальности этого не почувствовать! И если не почувствовал, если не насквозь, насквозь…
— Замолчи! — крикнула Литта. — Ничего ты не знаешь…
— Я? — и тяжелым взором посмотрел на нее Михаил. — Нет, это-то… это-то я знаю.
Сурово, темно было и ее лицо.
— О Флорентии не говори. Лучше совсем не говорить об этом. А если ему… тяжелее смерти? А если и… мне? Ведь я была с ним. С открытыми глазами мы шли. Оба знали, что нельзя… все-таки надо было, надо! Впрочем, тут нет слов.
Долго молчали оба. Потом тихонько Литта сказала:
— Нет, я не боюсь ничего, и за них, за пчелиных наших, не боюсь. Люблю просто, верю просто. Если есть еще непонятность, загадочность — так ведь мы касаемся чуждой нам души, народной. Своя там правда, только сказать себя пока не умеет. Любовь всегда права, Михаил, даже темная, и бережно-бережно хранить ее надо.