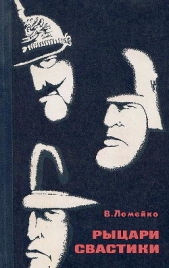Серый - цвет надежды

Серый - цвет надежды читать книгу онлайн
«Все описанные в книге эпизоды действительно имели место. Мне остается только принести извинения перед многотысячными жертвами женских лагерей за те эпизоды, которые я забыла или не успела упомянуть, ограниченная объемом книги. И принести благодарность тем не упомянутым в книге людям, что помогли мне выжить, выйти на свободу, и тем самым — написать мое свидетельство"
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так мы и жили, и пока не начались сильные осенние ветра - особых неприятностей не было. Казалось бы, почему люди, живущие в новом корпусе, должны зависеть от ветра? А очень просто. То и дело рвались электрические провода, и лагерь оставался без энергии. Это означало, что нет света - и неизвестно когда появится, а кроме того, теплую воду в батареи качали нам с больнички электрическим движком. Значит, пока не наладится со светом, не будет и тепла. Вот когда мы вздыхали по оставленным в старой зоне дровяным печкам. Хоть они и были наполовину развалены, а все же что-то давали. Тут мы оказались в полной зависимости от хозяйственных способностей нашей администрации - а нет ничего хуже: способности эти сводились даже не к нулю, а к некой отрицательной величине. Нельзя сказать, что батареи нормально грели и когда было электричество - угля для кочегарки хронически не хватало. Но на этот случай Арапов приволок нам "козла" - электрический нагреватель, и, таская его из спальни в спальню, мы все же сумели не вымерзнуть окончательно.
Пошла кампания изготовления самодельных свечей: Галя выбивала из санчасти парафин для горячих компрессов на свои больные суставы. Мы крутили нитяные фитили, натягивали их внутри пластиковых трубок (это были шпульки от бобин с нитками - отходы нашего швейного производства) и заливали трубки отработанным парафином. При этих свечах читали, писали письма, передвигались с ними по темной зоне. Галя смеялась:
- И от моей болезни есть какой-то толк!
Когда я говорю об отсутствии каких-то особых неприятностей - это означает обычный быт нашей зоны: месяцами подряд конфискуемые письма, тревога за близких и повторяющиеся изо дня в день усилия, чтоб не скатиться в бесцветную, бесконечную пропасть, которая называется таким коротким словом - тоска. Таня за весь срок получила только два письма от мужа, из пермского лагеря. Гале гораздо чаще, чем письма от Василия, вручали акты о конфискации ("письмо подозрительно по содержанию"). Галя пыталась спорить: ведь письмо ее мужа уже прошло лагерную цензуру в Перми! Что же, для разных цензоров разные правила? Но не было для цензуры вообще никаких правил: хотели пропускали письмо, хотели - нет. Хотеть им или не хотеть - решалось в КГБ, а нам они ничего объяснять не были обязаны. Напишешь письмо на двадцати листах - и через пару дней акт - "письмо конфисковано как содержащее условности".
- Да нет там никаких условностей!
- А вот мы нашли.
- Ну покажите, какие строчки вам не нравятся, я перепишу письмо без них.
- Вы сами должны знать.
А все дело в том, что КГБ ведет свои психологические этюды, и по их плану Игорь не должен получать сейчас от меня писем вообще. Потом, через несколько месяцев, когда он изведется от тревоги - к нему подступят с очередной беседой: мол, меня надо спасать, он сам знает, до чего я доведена и какие у меня шансы выжить так семь лет. Так вот, если бы он был с ними откровенен - может быть, можно было бы что-то для меня сделать... Игорь был откровенен - высказывал им, что он по их поводу думает. Но они в таких случаях необидчивы, времени у них много. Сейчас брыкается, может, через годик согласится. А переписка все-таки - взаимное влияние, так уж лучше сводить ее к минимуму. Не слишком ли роскошно - двадцать четыре письма от жены в год!
Иногда письма конфисковывались действительно по подозрению, и тогда цензор снисходила до объяснений. Например, как-то, подшучивая над Игорем, я съехидничала что-то насчет усов и бороды. Так бедная цензорша подумала, что я имею в виду усы и бороду классика марксизма-ленинизма! Так и объяснила:
- Письмо конфисковано, потому что вы шутите насчет Карла Маркса.
Воистину, непостижим ход цензорской мысли. Она и не допускает, что кто-то еще кроме их дорогих идеологов может быть усатый-бородатый! Это недоразумение решилось нетипично легко. Я предъявила ей фотографию Игоря, и она хлопнула себя по лбу:
- Ой, правда, я же вам сама эту фотографию принесла! Я просто забыла, что ваш муж носит бороду!
И письмо было отправлено.
У тех, кого привезли из Прибалтики, были дополнительные проблемы. Они имели право писать на родном языке, а это означало, что мордовские гебисты ничего не поймут. Как же беднягам это пережить? Приставали к нашим:
- Пишите по-русски!
- С какой это стати я своему сыну буду писать на чужом языке?
- А чтоб цензор понял!
- Я письмо не цензору пишу. Ищите переводчика, это ваше дело.
Пригрозили, что письма не по-русски пропускать не будут. Но тут уж ощетинилась вся зона - с нас бы сталось пойти на серьезный конфликт. Либо отказались бы от переписки все вместе, либо забастовали бы... Цензура отступила. Теперь она делала так: посылали письма куда-то на перевод, а потом уже цензурили. В итоге одно из писем пани Ядвиги добиралось до дома больше четырех месяцев, а уж три месяца - было прямо-таки нормой бытия.
Те же попытки были насчет разговоров с родственниками на свидании:
- Или говорите по-русски или молчите! Переводчиков у нас нет!
- Хорошо, буду молчать, но с родными по-русски говорить не стану, ответила пани Ядвига. - Объясню, что мне запретили говорить на родном языке, и все свидания проведу молча.
Тут они сообразили, что это получится уже политическая демонстрация с большим резонансом в Литве, и махнули рукой:
- Говорите как хотите!
Но свидания были такой редкой вещью, что в ту осень и зиму нам о них думать не приходилось. Было мне положено свидание в начале ноября, но всем было понятно, что лишат: 30 октября - День политзаключенных, и значит голодовка, и значит - свидание свое я проведу в штрафном изоляторе.
Так оно и вышло. Но у меня это уже не вызывало особых огорчений. Слишком хорошо я поняла с прошлого раза, как опасно, когда что-либо в лагерных условиях становится сверхценностью: уж очень легко слететь со всех тормозов. Лагле формулировала свою позицию так:
- Надо жить, зная, что свиданий вообще не будет. Захотят дать дадут, а нет - переживем. Меньше всего это зависит от нашего поведения, так стоит ли хоть как-нибудь стараться на этот предмет?
Это было очень правильно, и это стало философией зоны. Любые лишения чего угодно мы встречали с шутками. Соответствующие постановления, которые приносил Шалин, назывались у нас "пряниками".
Протесты шли своим порядком, но души при этом были избавлены от суеты. Мы могли объявить голодовку или забастовку, но - с улыбкой. И с улыбкой же отправлялись в карцеры.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Накануне 30 октября нас с Таней неожиданно взяли на этап. Куда - не сказали. Заверили только, что не в ШИЗО. Наши не знали, что и думать. Пани Ядвига даже в порыве оптимизма предположила, что нас вывозят за границу менять на шпионов или какого-нибудь очередного Луиса Карвалана. Однако это казалось уж слишком далеко идущим предположением, да и обмениваться на шпионов у нас обеих не было никакого желания. Сидя в лагере, мы приносили все же пользу - хотя бы тем, что экспериментально доказывали: вполне возможно все выдержать и не сойти со своих позиций. Даже женщинам. А если могут женщины - стыдно должно быть тем мужчинам, которые трусят. А если уж мужчины нашей страны перестанут трусить - жизнь, пожалуй, изменится так, что никому и не снилось. Знали, однако, что никого не спрашивают, хочет он или не хочет быть предметом размена. Но предполагали скорее, что это будет очередное "перевоспитание". Скверно: сутки голодовки в этапе для нас уже были серьезной физической нагрузкой. Напихали нам в мешки бульонных кубиков, перекрестили - по-католически и по-православному, в обе стороны. На вахте нас почти не обыскивали - чудеса!
Так мы и не знали, куда едем, пока не выгрузили нас на пересыльной тюрьме в Потьме. Запихнули в "камеру для освобождающихся госпреступников" (такая табличка была на двери). И, ничего не сообщая, оставили сидеть. Камера крошечная. Две железные койки одна над другой, параша и тумбочка, все спрессованно так, что не развернуться. Постель, однако, есть, и даже с одеялом. Живем! Но за каким же лешим нас сюда привезли? И куда повезут дальше (это ведь только пересылка) ? Как бы то ни было, а валяемся на койках и отдыхаем. До чего же мы, оказывается, устали!