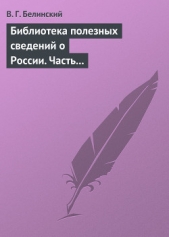Обоснование и защита марксизма .Часть первая

Обоснование и защита марксизма .Часть первая читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Г. Михайловский произнес свой собственный приговор и сознает, что произнес его.
Но с чего же это вздумалось г. Михайловскому подводить себя под действие беспощадного, им же самим произнесенного приговора? Неужели этот человек, страстно обличавший прежде литературных "акробатов", на старости лет сам почувствовал склонность к "акробатскому художеству"? Неужели возможны такие превращения? Всякие превращения возможны, читатель! И люди, с которыми случаются подобные превращения, достойны всякого порицания. Не мы будем оправдывать их. Но и к ним надо относиться, что называется, по человечеству. Припомните глубоко гуманные слова автора примечаний к Миллю: когда человек поступает плохо, то тут часто не столько вина его, сколько беда его; припомните, что говорил тот же автор по поводу литературной деятельности Н. А. Полевого:
"Н. А. Полевой был последователем Кузена, которого считал разрешителем всех премудростей и величайшим философом в мире… Последователь Кузена не мог примириться с гегелевской философией, и когда гегелевская философия проникла в русскую литературу, — ученики Кузена оказались отсталыми людьми, — и ничего нравственно-преступного с их стороны не было в том, что они защищали свои убеждения и называли нелепым то, что говорили люди, опередившие их в умственном движении; нельзя обвинять человека за то, что другие, одаренные более свежими силами и большею решительностью, опередили его, — они правы, потому что ближе к истине, но он не виноват, — он только ошибается" [166].
Г. Михайловский всю жизнь свою был эклектиком. Примириться с исторической философией Маркса он не мог по всему складу своего ума, по всему характеру своего предыдущего, — если так можно выразиться по отношению к г. Михайловскому, — философского образования. Когда идеи Маркса стали проникать в Россию, он сначала пробовал защищать их, причем дело не обошлось, разумеется, без многочисленных оговорок и без весьма значительных "недоумений". Он думал тогда, что и эти идеи ему удастся смолоть на своей эклектической мельнице и таким путем внести еще более разнообразия в свою умственную пищу. Потом он увидел, что для украшения мозаичных работ, называемых миросозерцанием эклектиков, идеи Маркса совсем не годятся, что их распространение грозит разрушить любезную ему мозаику. Вот он и ополчился на эти идеи. Конечно, он тотчас же оказался при этом отсталым человеком, но, право же, нам кажется, что он не виноват, что он только ошибается.
— Но ведь все это не оправдывает "акробатства"!
— Да мы и не оправдываем его, а только указываем на смягчающие обстоятельства: совершенно незаметным для себя образом г. Михайловский, благодаря развитию русской общественной мысли, попал в такое положение, из которого можно только выпутываться посредством "акробатства". Есть, правда, и еще выход, но на него решился бы только человек, полный истинного героизма. Этот выход: сложить эклектическое оружие.
Заключение
До сих пор мы, излагая идеи Маркса, рассматривали преимущественно те возражения, которые делаются ему с теоретической точки зрения. Теперь нам полезно ознакомиться и с "практическим разумом" по крайней мере, некоторой части его противников. При этом мы употребим прием сравнительно-исторический. Другими словами, мы рассмотрим сначала, как встретил идеи Маркса "практический разум" немецких утопистов, а потом уже обратимся к разуму наших дорогих и уважаемых соотечественников.
В конце сороковых годов у Маркса и Энгельса происходили интересная полемика с известным Карлом Гейнценом. Полемика сразу приняла очень горячий характер. Карл Гейнцен старался, что называется, вышучивать идеи своих противников и обнаружил в этом занятии ловкость, которая ни в чем не уступает ловкости г. Михайловского. Маркс и Энгельс в долгу, разумеется, не оставались. Не обошлось и без резкости. Гейнцен назвал Энгельса "легкомысленным, дерзким мальчишкой"; Маркс назвал Гейнцена представителем der grobianischen Literatur, а Энгельс объявил его "невежественнейшим человеком своего столетия". Вокруг чего же вертелся спор? Какие взгляды приписывал Гейнцен Марксу и Энгельсу? А вот какие.
Гейнцен уверял, что, с точки зрения Маркса, нечего было делать в тогдашней Германии человеку, проникнутому мало-мальски благородными намерениями. По Марксу, — говорил Гейнцен, — "должно сначала наступить господство буржуазии, которое должно сфабриковать фабричный пролетариат", который уже с своей стороны начнет действовать [167].
Маркс и Энгельс "не принимали в соображение того пролетариата, который создан тридцатью четырьмя немецкими вампирами", т. е., иначе сказать, всего немецкого народа, за исключением фабричных рабочих (слово "пролетариат" означает у Гейнцена лишь бедственное положение этого народа). Этот многочисленный пролетариат не имел, будто бы, по мнению Маркса, никакого права требовать лучшего будущего, потому что он носил на себе "лишь клеймо угнетения, а не фабричный штемпель; он должен был терпеливо голодать и умирать с голода (hungern und verhungern) до тех пор, пока Германия не сделается Англией. Фабрика есть школа, которую народ должен предварительно пройти для того, чтобы иметь право взяться за улучшение своего положения" [168].
Всякий, хоть немного знакомый с историей Германии, знает теперь, до какой степени нелепы были эти обвинения Гейнцена. Всякий знает, закрывали ли Маркс и Энгельс глаза на бедственное положение немецкого народа. Всякий понимает, справедливо ли было приписывать им ту мысль, что в Германии нечего делать благородному человеку, пока она не сделается Англией: кажется, эти люди делали кое-что и не дожидаясь подобного превращения своего отечества. Но почему же приписывал им Гейнцен весь этот вздор? Неужели по недобросовестности? Нет, мы опять скажем: тут была не вина его, а скорее беда его. Он просто не понял взглядов Маркса и Энгельса, и потому они показались ему вредными, а так как он горячо любил свою страну, то он и ополчился против этих, будто бы, вредных для нее взглядов. Но непонимание — плохой советник и очень ненадежный помощник в споре. Вот почему Гейнцен и очутился в самом нелепом положении. Он был очень остроумный человек, но без понимания на одном остроумии далеко не уедешь, и теперь "les rieurs" не на его стороне.
На Гейнцена, как видит читатель, приходится смотреть теми же глазами, какими надо смотреть у нас, по поводу совершенно аналогичного спора, например, на г. Михайловского. Да и на одного ли г. Михайловского? Ведь все те, которые приписывают "ученикам" стремление определиться на службу к Колупаевым и Разуваевым, — а имя им легион, — ведь все они повторяют ошибку Гейнцена, ведь никто из них не придумал ни одного возражения против "экономических"" материалистов, какое уже не фигурировало бы, почти пятьдесят лет тому назад, в аргументации Гейнцена. Если у них есть что-нибудь оригинальное, так это одно: наивное незнание того, до какой степени они не оригинальны. Им все хочется найти "новые пути" для России, а по их невежеству "бедная русская мысль" попадает лишь на старые, полные рытвин, давно заброшенные пути европейской мысли. Странно это, но совершенно понятно, если применить к объяснению этого, по-видимому, странного явления "категорию необходимости". На известной стадии экономического развития данной страны в головах ее интеллигенции "необходимо" вырастают известные благоглупости.
До чего комично было положение Гейнцена в споре с Марксом, покажет следующий пример. Он приставал к своим противникам, требуя от них подробного "идеала" будущего: скажите, спрашивал он их, как по вашему должны быть устроены имущественные отношения? Каковы должны быть пределы частной собственности, с одной стороны, и общественной — с другой. Они отвечали ему, что в каждый данный момент имущественные отношения общества определяются состоянием его производительных сил, и что, поэтому, можно указать лишь общее направление общественного развития, но нельзя вырабатывать заранее никаких точно определенных законопроектов. Уже теперь можно сказать, что обобществление труда, создаваемое новейшей промышленностью, должно повести к национализации средств производства. Но нельзя сказать, в каких пределах можно было бы осуществить эту национализацию, положим, через десять лет: это зависело бы от того, в каких взаимных отношениях оказались бы тогда мелкая и крупная промышленность, крупное землевладение и крестьянская поземельная собственность и т. п. — Ну, стало быть, у вас нет никакого идеала, умозаключал Гейнцен; хорош идеал, который будет сфабрикован лишь впоследствии машинами.