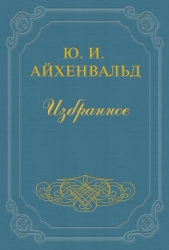Путешествие Глеба

Путешествие Глеба читать книгу онлайн
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) печатается главный труд его жизни – четырехтомная автобиографическая эпопея «Путешествие Глеба», состоящая из романов «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953). Тетралогия впервые публикуется в России в редакции, заново сверенной по первопечатным изданиям. В книгу включены также лучшая автобиография Зайцева «О себе» (1943), мемуарный очерк дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю» и рецензия выдающегося литературоведа эмиграции К. В. Мочульского о первом романе тетралогии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И пока кучер, свернув с плотины, рысцой вез их вдоль озера к дубу, Калачев разглагольствовал.
– Балыковский завод в двадцати пяти верстах и вот сюда, левее, а Сэров чуть подальше и правее. Большой монастырь, известный, на реке Сатисе, там этот старец жил… ну, очень прославленный теперь – Серафим. И его избушка сохранилась, разные лапотки в ней хранятся, белая рубашка. Поклонение ему большое, вроде святого почитается. Говорят, в свое время тысячу дней на камне в лесу простоял, все молился. С медведями дружил. А теперь больные ездят и разные дамы. Там и источник, вода холоднющая, но в ней купают именно больных… Да вот, если погода будет хорошая, надо подбить Аркадия Ивановича – съездить туда пикником…
Пролетка покачивалэсь иногда на корнях сосен. Порядочно встряхивала. Глеб слушал, молчал. Он был в грустном, задумчивом настроении. Не совсем и здоровилось, одиноко как-то. Отца целыми днями нет…
– Почему же он стоял так на камне? – вдруг спросил он.
– Ах, Серафим-то? Что же, он этим занимался, пустынник был, и выстаивался, набирался мудрости… а потом жил при монастыре стэрцем, этэким мудрецом народным, что ли, к нему за советами ходили, за исцеленьем.
– Он исцелял?
– Говорят, говорят… Да это давно было, при Николае Первом, в тридцатых годах. Может быть, и приукрашено…
Дуб, правда, оказался гигантский. Вороновым крылом блестели опаленные его ветви, в гладких шрамах. На верхушке сидел ястребок, тотчас снявшийся.
Лошадь оставили, сами пошли не по Саровской дороге, а тропкой – Калачев впереди, Глеб сзади.
– Тут торфяники справа, да мы мимо них, опушечкой. На опушке и станем, вальдшнеп вдоль болота любит тянуть…
Так и стали, друг от друга шагах в пятидесяти. В руках у Глеба уже не тульское ружьецо, а центрального боя двустволка из Бельгии. И сам он не совсем прежний: не то рассеян, не то как-то и грустен. За спиной смешанный крупный лес, там с каждой минутой сгущается мгла, но дышит глубина, благовоние горько-сырое. Желтый лютик над кочкой, рано зацветший белыми цветочками куст. И небо все выше, нежнее раздвигается – там, где солнце уйдет, на гаснущем пламени выступит слеза серебряная – Венера.
Все же ухо Глебово тонко. Издали, в глуби лесов звук родившийся: «х-р, х-р», хрипловато, но и поюще, заставляет сердце забиться. Звук приближается, сердце сильней стучит. Вот и он, таинственный обитатель мест сих, аристократ и барин острокрылый, длинноносый, худенько-изящный вальдшнеп. Бах-бах…
Со стороны Калачева дуплет, легким огнем и дымом мечет сквозь осинки, вальдшнеп делает дугу, вбок над мелколесьем уносится к торфяникам, прочь от стрелка.
«Смазал, конечно», – Глеб был и уверен, что Калачев смажет. Он погладил стволы своего ружья с видом маэстро безупречного. Но и равнодушие овладело им: не хотелось ни стрелять, ни не стрелять, вообще ничего не хотелось.
Через несколько минут на него самого налетел вальдшнеп. Со все-таки замирающим сердцем приложился он и выстрелил – совершенно так же, как и Калачев, смазал, горячась, выстрелил и из левого ствола, и с таким же успехом.
Охотнику промах никогда не радостен. Глеб взволнованно вынимал из дымившегося ружья гильзы и вставляя новые, про себя как-то оправдывался: «Лес огромный, высоко тянут».
Прелью, горькой свежестью все сильней пахло. Закат стал темно-краснеть. Кроме Венеры и мелкие звездочки появились. Сквозь рассеянность свою и тоскливость Глеб стал прямо хотеть уж теперь удачи, ждал, волновался. Но несмотря на погожий вечер, тяга оказалась плохая. Раза два Калачев еще выстрелил – безуспешно. И, наконец, в низко летевшего вальдшнепа промазал Глеб вовсе позорно.
– Здорово пуделяете! – крикнул Калачев.
Наступала темнота, плохо видна была уже мушка ствола. У калачевской рыжеватой бородки засветился огонек – он закурил и двинулся к Глебу.
– Я тут одного уложил, – сказал Калачев, – досадно, что собаку не взяли. Ясно видел, как он в мелоча упал, да где же в темноте найти. Высоко тянут, анафемы, стрелять трудно.
– А я видел, что ваш так же улетел, как и мой, – сказал Глеб мрачно.
– Ну, что вы… Я ему полкрыла отстрелил. Жаль, жаль, собаки нет. Домой вернемся ни с чем.
– И собака была бы, тоже ни с чем бы вернулись.
– Ого-го! Вас не переспоришь… А я собственными глазами видел, что он упал.
– Никуда он не падал.
Они шли теперь к лошади, оба в довольно нервном настроении. С торфяного болота подымался туман.
Молча сели, молча тронулись. Калачев закурил уже третью папиросу.
Плотина, языки пламени над домнами, огоньки в селе, все это показалось Глебу неприятным и ненужным. Зачем он ездил с этим Калачевым… Да и вообще вся эта жизнь… Разумеется, надо сколько-то побыть, в Калуге делать сейчас нечего, товарищи вот-вот начнут держать экзамены, а он… раз он как выздоравливающий, так, значит, надо.
Домой вернулись пасмурные. Из Балыкова приехал отец, встретил их чуть не у самой двери.
– Ну, хно-хнотнички, много дичи набили? И когда узнал, что ничего, длинно свистнул.
Глеб хотел было оправдываться и объяснять, что тяга в этом месте высока, но внезапно отворилась из гостиной дверь – лицо Людмилы было полно раздражения, вся худенькая фигурка полна нервности и чего-то болезненного. За ней выскочил и Ганешин. Людмила обернулась к нему, вдруг схватила с подставки вазу, хлопнула ее об пол, под ноги Ганешину, как бомбу. Ваза вдребезги разлетелась.
– Людмилочка, – забормотал Калачев, – что с тобой? Людмила зарыдала, кинулась в кресло.
– Ах, меня никто здесь не понимает!
Глеб мало еще интересовался непонятными натурами, Людмила же и не совсем ему нравилась. Он был удивлен этой сценой, но особенного внимания не обратил: ясно, что тут вообще все особенное.
Людмила отплакалась сколько надо, потом ушла к себе и к ужину вышла уже приодетая, подпудренная, хотя и с загадочной мрачностью. Но после шампанского развеселилась. Все пошло гладко. На другой день она скакала уже с Ганешиным в черной своей амазонке по дорогам Илева.
Наступил май, очень теплый, раннепогожий. Березки давно зазеленели. Появились майские жуки. Калачев с Глебом выходили по вечерам в сад с крокетными молотками в руках. Жуки пролетали, тихо гудя, а они старались сбивать их в лет. Когда жук падал, Калачев произносил от Финка идущую фразу:
– Бжми хщонщ в тшстине! [12]
Так продолжал Глеб свою бесцельную, лениво-бездеятельную жизнь: читал случайные романы, старые журналы, слушал, валяясь на диване, рассказы Калачева.
Из-за теплыни тяга скоро кончилась. Да не особенно и влекло к охоте. Глеб бродил по парку, иногда уезжал один в лодке на озеро.
Калачев же каждое утро отправлялся теперь к Финку. Входил очень серьезно, здоровался, брался за ручку орекстриона. Музыка начиналась. Калачев подпевал голосом козлообразным, Наполеон выл и лаял. Финку все это нравилось. Полуодетый, седой, с опухолью в виде бутыли, он сидел в кресле, слегка дирижируя рукой. Когда раз Калачев не пришел, Финк остался им недоволен. На другое утро и упрекнул.
– Чи пан инжинер зварьевал? Встал и не-гра! [13]Утренние симфонии слышал и Глеб, из своей верхней комнаты. Они действовали ему на нервы, как Финкову Наполеону. Так что он читал «Борьбу за Рим», затыкая уши. Однако сам заходил иногда к Финку, теперь не боялся его. Скорее даже тот интересовал Глеба.
Судьба Финка не совсем была ему понятна. Хотелось узнать и понять. Однажды, окончательно осмелев, он спросил об этом прямо.
Финк усмехнулся.
– То долгая история, пане Г-хлебе, то долгая… (Глебу нравилось, что Финк называл его «пан».) Давно то было. И неинтересно.
– Расскажите, Болеслав Фердинандович.
– Что же рассказывать, было время, у себя жил, своим домом, а теперь нет. Это неинтересно.
– А мне очень интересно.
Глеб говорил несмело, но с упорством. Ему правда хотелось послушать Финка.