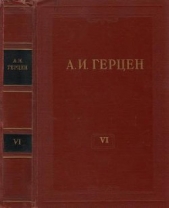Том 7. О развитии революционных идей в России
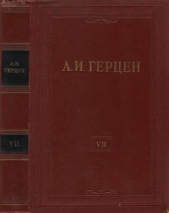
Том 7. О развитии революционных идей в России читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Письмо Чаадаева прозвучало подобно призывной трубе: сигнал был дан, и со всех сторон послышались новые голоса; на арену вышли молодые бойцы, свидетельствуя о безмолвной работе, производившейся в течение этих десяти лет.
14 (26) декабря слишком резко отделило прошлое, ' чтобы литература, которая предшествовала этому событию, могла продолжаться. Назавтра после этого великого дня еще мог появиться Веневитинов, юноша, полный мечтаний и идей 1825 года. Отчаяние, как и боль после ранения, наступает не сразу. Но, едва успев промолвить несколько благородных слов, он увял, словно южный цветок, убитый леденящим дыханием Балтики.
Веневитинов не был жизнеспособен в новой русской атмосфере. Нужно было иметь другую закалку, чтобы дышать воздухом этой зловещей эпохи, надобно было с детства приспособиться к этому резкому и непрерывному ветру, сжиться с неразрешимыми сомнениями, с горчайшими истинами, с собственной слабостью, с каждодневными оскорблениями; надобно было с самого нежного детства приобрести привычку скрывать все, что волнует душу, и не только ничего не терять из того, что в ней схоронил, а, напротив, – давать вызреть в безмолвном гневе всему, что ложилось на сердце. Надо было уметь ненавидеть из любви, презирать из гуманности, надо было обладать' безграничной гордостью, чтобы, с кандалами на руках и ногах, высоко держать голову.
Каждая песнь «Онегина», появлявшаяся после 1825 года, отличалась все большей 'глубиной. Первоначальный план поэта был непринужденным и безмятежным; он его наметил в другие времена, поэта окружало тогда общество, которому нравился этот иронический, но доброжелательный и веселый смех. Первые песни «Онегина» весьма напоминают нам язвительный, но сердечный комизм Грибоедова. И слезы и смех – все переменилось.
Два поэта, которых мы имеем ' в виду и которые выражают новую эпоху русской поэзии, – это Лермонтов и Кольцов. То были два мощных голоса, доносившиеся с противоположных сторон.
Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение Пушкина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на него надежды; в его сердце не переставала звучать струна воспоминаний о временах императора Александра. Лермонтов же так свыкся с отчаяньем и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды, он не жертвовал собой, ибо ничто не требовало этого самопожертвования. Он не шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действенность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что.
Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу Лермонтова. Он написал энергическую оду, в которой, заклеймив низкие интриги, предшествовавшие дуэли, – интриги, затеянные министрами-литераторами и журналистами-шпионами, – воскликнул, с юношеским негодованием: «Отмщенье, государь, отмщенье!». Эту единственную свою непоследовательность поэт искупил ссылкой на Кавказ. Произошло это в 1837 году; в 1841 тело Лермонтова было опущено в могилу у подножья Кавказских гор. И то, что ты сказал перед кончиной,
К счастью, для нас не потеряно то, что написал Лермонтов за последние четыре года своей жизни. Он полностью принадлежит к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли – и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса – то были сомнения отрицания, мысли, полные ярости. Свыкшись с этим чувствами, Лермонтов не мог найти спасения в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения. Мужественная, печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его стихах. Это не отвлеченная мысль, стремящаяся украсить себя цветами поэзии; нет, раздумье Лермонтова – его поэзия, его мученье, его сила [43]. Симпатии его к Байрону были глубже, чем у Пушкина. К несчастью быть слишком проницательным у него присоединилось и другое – он смело высказывался о многом без всякой пощады и без прикрас. Существа слабые задетые этим, никогда не прощают подобной искренности.
О Лермонтове говорили как о балованном отпрыске аристократической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погибают от скуки и пресыщения. Не хотели знать, сколько боролся этот человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился выразить свои мысли. Люди гораздо снисходительней относятся к брани и ненависти, нежели к известной зрелости мысли, нежели к отчуждению, которое, не желая разделять ни их надежды, ни их тревоги, смеет открыто говорить об этом разрыве. Когда Лермонтов, вторично приговоренный к ссылке, уезжал из Петербурга на Кавказ, он чувствовал сильную усталость и говорил своим друзьям, что постарается как можно скорее найти смерть. Он сдержал слово.
Что же это, наконец, за чудовище, называемое Россией, которому нужно столько жертв и которое предоставляет детям своим лишь печальный выбор погибнуть нравственно в среде, враждебной всему человечеству, или умереть на заре своей жизни? Это бездонная пучина, где тонут лучшие пловцы, где величайшие усилия, величайшие таланты, величайшие способности исчезают прежде, чем успевают чего-либо достигнуть. Но можно ли сомневаться в существовании находящихся в зародыше сил, когда из самых глубин нации зазвучал такой голос, как голос Кольцова?
В течение века или даже полутора веков народ пел одни лишь старинные песни или уродливые произведения, сфабрикованные в первой половине царствования Екатерины II. Правда, в начале нашего века появилось несколько довольно удачных подражаний народной песне, но этим искусственным творениям недоставало правды; то были попытки, причуды. Именно из самых недр деревенской России вышли новые песни. Их вдохновенно сочинял прасол, гнавший через степи свои стада, Кольцов был истинный сын народа. Он родился в Воронеже, до десяти лет посещал приходскую школу, где научился только читать да писать без всякой орфографии. Отец его, скотопромышленник, заставил сына заняться тем же делом. Кольцов водил стада за сотни верст и привык благодаря этому к кочевой жизни, нашедшей отражение в лучших его песнях. Молодой прасол любил книги и постоянно перечитывал кого-нибудь из русских поэтов, которых брал себе за образец, попытки подражания давали ложное направление его поэтическому инстинкту: Наконец проявил себя подлинный его дар; он создал народные песни, их немного, но каждая – шедевр. Это настоящие песни русского народа. В них чувствуется тоска, которая составляет характерную их черту, раздирающая душу печаль, бьющая через край жизнь (удаль молодецкая). Кольцов показал, что в душе русского народа кроется много поэзии, что после долгого и глубокого сна в его груди осталось что-то живое. У нас есть еще и другие поэты, государственные мужи и художники, вышедшие из народа, но они вышли из него в буквальном смысле слова, порвав с ним всякую связь. Ломоносов был сыном беломорского рыбака. Он бежал из отчего дома, чтобы учиться, поступил в духовное училище, затем уехал в Германию, где перестал быть простолюдином. Между ним и русской земледельческой Россией нет ничего общего, если не считать той связи, что существует между людьми одной расы. Кольцов же остался при стадах и при делах своего отца, который его ненавидел и с помощью других родственников сделал жизнь для него такой тяжелой, что в 1842 году он умер. Кольцов и Лермонтов вступили в литературу и скончались почти в одно и то же время. После них русская поэзия онемела.