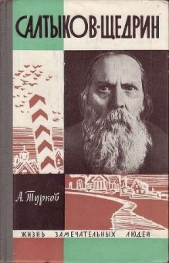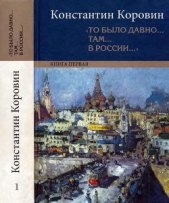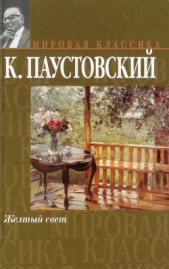В огне и холоде тревог —
Так жизнь пройдет. Запомним оба,
Что встретиться судил нам Бог
В час искупительный – у гроба.
Я верю: новый век взойдет
Средь всех несчастных поколений.
Недаром славит каждый род
Смертельно оскорбленный гений.
И все, как он, оскорблены
В своих сердцах, в своих певучих.
И всем – священный меч войны
Сверкает в неизбежных тучах.
Пусть день далек – у нас все те ж
Заветы юношам и девам:
Презренье созревает гневом,
А зрелость гнева – есть мятеж.
Разыгрывайте жизнь, как фант.
Сердца поэтов чутко внемлют,
В их беспокойстве – воли дремлют;
Так точно – черный бриллиант
Спит сном неведомым и странным,
В очарованьи бездыханном,
Среди глубоких недр, – пока
В горах не запоет кирка.
1910–1914
Все, что минутно, все, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.
Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.
От медленных лобзаний влаги
Нежнее грубый свод гробниц,
Где зеленеют саркофаги
Святых монахов и цариц.
Безмолвны гробовые залы,
Тенист и хладен их порог,
Чтоб черный взор блаженной Галлы,
Проснувшись, камня не прожег.
Военной брани и обиды
Забыт и стерт кровавый след,
Чтобы воскресший глас Плакиды
Не пел страстей протекших лет.
Далеко отступило море,
И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.
А виноградные пустыни,
Дома и люди – все гроба.
Лишь медь торжественной латыни
Поет на плитах, как труба.
Лишь в пристальном и тихом взоре
Равеннских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море
Проходит робкой чередой.
Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.
Друг другу мы тайно враждебны,
Завистливы, глухи, чужды,
А как бы и жить и работать,
Не зная извечной вражды!
Что делать! Ведь каждый старался
Свой собственный дом отравить,
Все стены пропитаны ядом,
И негде главу преклонить!
Что делать! Изверившись в счастье,
От смеху мы сходим с ума,
И, пьяные, с улицы смотрим,
Как рушатся наши дома!
Предатели в жизни и дружбе,
Пустых расточители слов,
Что делать! Мы путь расчищаем
Для наших далеких сынов!
Когда под забором в крапиве
Несчастные кости сгниют,
Какой-нибудь поздний историк
Напишет внушительный труд…
Вот только замучит, проклятый,
Ни в чем не повинных ребят
Годами рожденья и смерти
И ворохом скверных цитат…
Печальная доля – так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить…
Зарыться бы в свежем бурьяне,
Забыться бы сном навсегда!
Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!
1908
За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, – и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.
Напрасно и день светозарный вставал
Над этим печальным болотом:
Его обитатель свой день посвящал
Вину и усердным работам.
Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и прямо,
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно.
Потом вылезали из будок, как псы,
Смотрели, как море горело.
И золотом каждой прохожей косы
Пленялись со знанием дела.
Разнежась, мечтали о веке златом,
Ругали издателей дружно,
И плакали горько над малым цветком,
Над маленькой тучкой жемчужной…
Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть – хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?
Нет, милый читатель, мой критик слепой.
По крайности, есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,
Тебе ж недоступно все это!..
Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта – всемирный запой,
И мало ему конституций!
Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то Бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!
1908