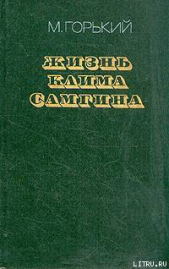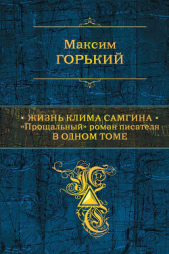Том 22. Жизнь Клима Самгина. Часть 4

Том 22. Жизнь Клима Самгина. Часть 4 читать книгу онлайн
В двадцать второй том собрания сочинений вошла четвертая часть «Жизни Клима Самгина», не вполне законченная автором и впервые опубликованная после его смерти Комиссией ЦК ВКП(б) и СНК СССР по приемке литературного наследства и переписки А. М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В столовой вспыхнул огонь, четко осветил Дронова, Иван, зажав в коленях бутылку вина, согнулся, потемнел от натуги и, вытаскивая пробку, сопел.
Клим Иванович Самгин чувствовал себя встревоженным, но эта тревога становилась все более приятной. Была минута, когда он обиженно удивился:
«Почему я не мог оформить мой опыт так же просто и ясно?»
Но вскоре, вслед за этим, он отметил с чувством гордости:
«В этой книге есть идеи очень близкие мне, быть может, рожденные, посеянные мною».
Затем он вспомнил фигуру Петра Струве: десятка лет не прошло с той поры, когда он видел смешную, сутуловатую, тощую фигуру растрепанного, рыжего, судорожно многоречивого марксиста, борца с народниками. Особенно комичен был этот книжник рядом со своим соратником, черноволосым Туган-Барановским, высоким, тонконогим, с большим животом и булькающей, тенористой речью.
«Вожди молодежи», — подумал Самгин, вспомнив, как юные курсистки и студенты обожали этих людей, как очарованно слушали их речи на диспутах «Вольно-экономического общества», как влюбленно встречали и провожали их на нелегальных вечеринках, в тесных квартирах интеллигентов, которые сочувствовали марксизму потому, что им нравилось «самодовлеющее начало экономики». Неприятно было вспомнить, что Кутузов был первым, кто указал на нелепую несовместимость марксизма с проповедью «национального самосознания», тогда же начатой Струве в статье «Назад к Фихте». Затем, с чувством удовлетворения самим собою, как человек, который мог сделать крупную ошибку и не сделал ее, Клим Иванович Самгин подумал:
«Я никогда, ничего не проповедовал, у меня нет необходимости изменять мои воззрения».
А Иван Дронов снова был охвачен судорогами поисков «нового слова», он трепал гранки и торопливо вычитывал:
— «Западный буржуа беднее русского интеллигента нравственными идеями, но зато его идеи во многом превышают его эмоциональный строй, а главное — он живет сравнительно цельной духовной жизнью». Ну, это уже какая-то поповщинка! «Свойства русского национального духа указуют на то, что мы призваны творить в области религиозной философии». Вот те раз! Это уже — слепота. Должно быть, Бердяев придумал.
Он глотал вино, грыз бисквиты и все шаркал ногами, точно полотер, и восхищался.
— Эта книжечка — наскандалит! Выдержит изданий пяток, а то и больше. Ах, черти…
Тут восхищение его вдруг погасло, поглаживая гранки ладонью, он сокрушенно вздохнул.
— Проморгал книжечку. Два сборника мы с Вар<юхой> поймали, а этот — ускользнул! Видал «Очерки по философии марксизма»? и сборник статей Мартова, Потресова, Маслова?
Закрыв правый глаз, он растянул губы широкой улыбкой, обнаружил два золотых клыка в нижней челюсти и один над ними.
— Всё очерчивают Маркса. Очертить — значит ограничить, а? Только Ленин прет против рожна, упрямый, как протопоп Аввакум.
Наконец, сунув гранки за пазуху, он снова спросил:
— Ну, так что же ты скажешь? Событие, брат! Знаешь, Азеф и это, — он ткнул себя пальцем в грудь, — это ударчики мордогубительные, верно?
Он ждал.
Нужно было сказать что-то.
— Я уже отметил излишнюю, полемическую заостренность этой книги, — докторально начал Самгин, шагая по полу, как по жердочке над ручьем. — Она еще раз возобновляет старинный спор идеалистов и… реалистов. Люди устают от реализма. И — вот…
Он помахал рукой в воздухе, разгоняя дым, искоса следя, как Дронов сосет вино и тоже неотрывно провожает его косыми глазами. Опустив голову, Самгин продолжал:
— Да. В таких серьезных случаях нужно особенно твердо помнить, что слова имеют коварное свойство искажать мысль. Слово приобретает слишком самостоятельное значение, — ты, вероятно, заметил, что последнее время весьма много говорят и пишут о логосе и даже явилась какая-то секта словобожцев. Вообще слово завоевало так много места, что филология уже как будто не подчиняется логике, а только фонетике… Например: наши декаденты, Бальмонт, Белый…
— Что ты, брат, дребедень бормочешь? — удивленно спросил Дронов. — Точно я — гимназист или — того хуже — человек, с которым следует конспирировать. Не хочешь говорить, так и скажи — не хочу.
Говорил он трезво, но, встав на ноги, — покачнулся, схватил одной рукою край стола, другой — спинку стула. После случая с Бердниковым Самгин боялся пьяных.
— Подожди, — сказал он мягко, как только мог. — Я хотел напомнить тебе, что Плеханов доказывал возможность для социал-демократии ехать из Петербурга в Москву вместе с буржуазией до Твери…
— На кой чорт надо помнить это? — Он выхватил из-[за] пазухи гранки и высоко взмахнул ими. — Здесь идет речь не о временном союзе с буржуазией, а о полной, безоговорочной сдаче ей всех позиций критически мыслящей разночинной интеллигенции, — вот как понимает эту штуку рабочий, приятель мой, эсдек, большевичок… Дунаев. Правильно понимает. «Буржуазия, говорит, свое взяла, у нее конституция есть, а — что выиграла демократия, служилая интеллигенция? Место приказчика у купцов?» Это — «соль земли» в приказчики?
Дронов кричал, топал ногой, как лошадь, размахивал гранками. Самгину уже трудно было понять связи его слов, смысл крика. Клим Иванович стоял по другую сторону стола и молчал, ожидая худшего. Но Дронов вдруг выкрикнул:
— Я буду говорить прямо, хотя намерен говорить о себе, — он тотчас замолчал, как бы прикусив язык, мигнул и нормальным своим голосом, с удивлением произнес:
— Здорово сказал, а? Ч-чорт! Для эпиграфа сказал, ей-богу! Есть в натурке моей кое-какой перец, а? Так вот — о себе. Я — не буржуй, не социалист. Я — рядовой армии людей свободных профессий. Человек, который должен бороться за себя, не имея никаких средств к жизни, не имея покровителя и ничего — кроме желания жить прилично. Это желание — основа всех талантов и действий, как награждаемых славой, так и наказуемых законами. Я должен быть гибок, изворотлив и так далее. С кем я? С пролетариатом физического труда? Не гожусь, не способен на подвиги самозабвения. Я люблю вкусно есть, много пить, люблю разных баб. С хозяевами, с буржуями? Нет, это мне противно. Я умнее любого буржуя. Я не умею и не хочу притворяться миленьким. — Расправив плечи, выпятив живот, он добавил:
— И маленьким.
Захлебнулся последним словом, кашлянул, быстро выпил стакан вина, взглянул на часы и горячо предложил:
— Клим Иванович, давай, брат, газету издавать! Просто и чисто демократическую, безо всяких эдаких загогулин от философии, однако — с Марксом, но — без Ленина, понимаешь, а? Орган интеллигентного пролетариата, — понимаешь? Будем морды бить направо, налево, а?
— Нужны деньги, — осторожно сказал Самгин.
— Святое слово! Именно — нужны деньги.
— И — большие.
— Божественно! Именно — большие. Ну, я уже опоздал, ах, чорт! Надо отвезти гранки. Я ночую у тебя — ладно?
— Пожалуйста, — сказал Самгин. В прихожей, забивая ноги в тяжелые кожаные ботики, Дронов вдруг захохотал.
— Нет, сообрази — куда они зовут? Помнишь гимназию, молитву — как это? «Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу».
Размахивая шапкой, он произнес тоном мальчишки, который дразнит товарища:
— А я — человек без рода, без племени, и пользы никому, кроме себя, не желаю. С тем меня и возьмите…
Тихонько свистнул сквозь зубы и ушел. Клим Иванович Самгин встряхнулся, точно пудель, обрызганный водою дождевой лужи, перешагнул из сумрака прихожей в тепло и свет гостиной, остановился и, вынимая папиросу, подвел итог:
«Негодяй. Пошляк и жулик. Газета — вот все, что он мог выдумать. Была такая ничтожная газета «Копейка». Но он очень хорошо характеризовал себя, сказав: «Буду говорить прямо, хотя намерен говорить о себе».
Клим Иванович щелкнул пальцами, ощущая, что вместе с Дроновым исчезло все, что держало в напряжении самообороны. Являлось иное настроение, оно не искало слов, слова являлись очень легко и самовольно, хотя беспорядочно.
«Семь епископов отлучили Льва Толстого от церкви. Семеро интеллигентов осудили, отвергают традицию русской интеллигенции — ее критическое отношение к действительности, традицию интеллекта, его движущую силу».