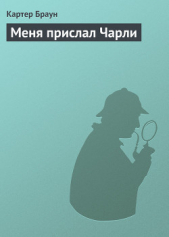Жертва вечерняя

Жертва вечерняя читать книгу онлайн
Более полувека активной творческой деятельности Петра Дмитриевича Боборыкина представлены в этом издании тремя романами, избранными повестями и рассказами, которые в своей совокупности воссоздают летопись общественной жизни России второй половины XIX — начала ХХ века.
В первый том Сочинений вошли: роман "Жертва вечерняя" (1868), повесть "Долго ли?" и рассказ «Труп».
Вступительная статья, подготовка текста и примечания С.Чупринина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все это под рукой, все это так просто и возможно.
Возможно, а все-таки не знаешь, как взяться.
Елена Семеновна учит детей. У нее это порядочно идет, оттого что она сама чему-нибудь порядочно училась. А я? Я на каждом шагу спотыкаюсь, чувствую, что не в состоянии выучить и простой грамоте.
Помогать добрым словом и деньгами! Я и помогаю, но кто мне поручится за то, что я делаю все с прямой пользой? Какой у меня оселок, чтобы судить, что больше достойно помощи, что меньше? Есть ли у меня хоть одна твердая идея о том: где источник зла, бедности, страданий и всякого мрака! Как добыть радикальное лекарство?
Боже ты мой! опять я одна-одинехонька, на перепуг.
Опять нужно толкаться куда-нибудь в другую дверь!
7 июня 186*
Днем. — Пятница
Меня начали осаждать бедные. Я бы не хотела, чтобы они являлись ко мне… Не знаешь, как разорваться и кому как помогать. Все мои туалетные деньги ушли.
Новый и окончательный удар!
Ариша говорить мне вчера, когда я ложилась спать:
— Марья Михайловна, вы на меня не извольте сердиться за то, что я вам доложу-с.
Сердце у меня сжалось. Ариша — это мой фатум. Она является всегда, как голос рока…
— Я, хоть и простая девушка, Марья Михайловна, указывать вам не смею, а воля ваша, мне за вас обидно-с.
— Что такое?
— Как же, матушка! Теперь все эти бедные, что сюда шатаются, вы им изволите верить, a ведь они над вами же смеются.
— Как смеются?
— Ей богу-с. Я бы не посмела вам врать… Вот та старушка, что по понедельникам приходит…
— Ну, что же старушка? — перебила я Аришу. — Она несчастная женщина, я у нее была на квартире.
— Какая же она несчастная! Она отсюда прямо в питейное заведение заходмт. Ей этого мало, что вы ей изволите благодетельствовать: есть у нея дочь-девушка… из таких, знаете, из гуляющих. Так она с нее каждую неделю оброк обирает. А то, говорить, вида тебе не дам. Старуха-то чиновница. Ну, и дочь-то пока при ней значится.
— Да ведь она живет на своей квартире.
— Это она угол нанимает. Вот когда кто-нибудь из благодетельниц посетит, кой-когда и ночует, а то все к дочери.
— Да ты-то как это знаешь? — спросила я пристыженным голосом у Ариши.
— Семен сказывал. Он с вами ездил туда. Там ему другие жильцы все это доподлинно выставили… Вы меня, Христа ради, простите, Марья Михайловна, что я по любви моей к вам осмелилась… Да ведь не одна эта старушка… Известное дело, есть неимущий народ, за то уж и мошенников-то не оберешься!..
Вот что я выслушала! Сомневаться тут нельзя. Люди всегда знают правду; а нас, бар, всегда проводить, должно быть в наказание за то, что мы и добра-то не умеем делать так, как следует.
Да ведь это пропасть какая-то, бездна!
Вовремя я спохватилась! Надо было подумать об этом с первого же дня и оградить себя от такого презренного плутовства.
Оградить! Но чем? Разве у нас есть какие-нибудь сведения, дельная опытность, практическая сноровка? Ничего у нас нет.
Стало быть, и Лизавету Петровну обманывают на каждом шагу. У нее больше любви к человеку, чем во мне; но она еще доверчивее и рассеяннее. Она всегда блуждает там, наверху, и не может видеть, как всякая потаскушка, всякая салопница обводит ее грубой ложью, издевается над нею про себя, как над вздорной, полусумасшедшей барыней.
Да, барыни мы, барыни, и больше ничего! Что бы мы ни делали, куда бы мы ни стремились, — каждый наш шаг, всякое наше слово и дело поражены беспомощностью и неумением.
Что я теперь стану делать с Лизаветой Петровной? Люблю я ее, мою милую, горячо; но ничего я от нее больше не жду. Не может она дать мне силы… Не может она и сама идти по прямому и твердому пути.
Но она все-таки счастливее меня. Она верит в свою силу; а я теперь — сомнение и апатия.
10 июня 186*
Ночью. — Понедельник
Приходит Степа и застает меня в спальне, на кушетке, деревянную, тоскливую, совсем убитую…
Он ведь никогда сам не спросил: почему я в том или другом настроении духа. Он считает это, вероятно, "вторжением в частную жизнь", как он изволит выражаться.
Спрашивает меня:
— Здорова ты, Маша?
— Здорова, — говорю.
— Устала?
— Нет, не устала.
Чем больше он деликатничал, тем больше разгоралось во мне желание излиться перед ним…
Он бы меня долго продержал со своими "гражданскими правами". Но я, разумеется, не вытерпела.
— Степа, — говорю я ему: — этак жить нельзя! Выслушай ты меня, Бога ради!
Когда я ему это сказала, он тотчас же подсел ко мне и сделался преласковый. У него ведь все по пунктикам: "нуждаешься мол в моем сочувствии — на тебе его; а пока не скажешь, я не имею права трогать тебя".
Говорила я ему целых два часа и с охами, и с ахами, со слезами и вздыханиями. Все высказала! Никогда еще я не доходила до такой мельчайшей откровенности, не умолчала ни об одном сомнении, ни об одном факте.
Не тотчас заговорил Степа. Он не удивился. Лицо его не выразило никакого нового сострадания своей душевной тревоги: оно было просто доброе, внимательное в что-то обдумывающее.
— Все ты мне высказала? — спросил он после большой паузы.
— Все.
— Ну, теперь, Маша, пора и мне сказать тебе свое слово, тем более, что ты ждешь. Я оставлял тебя в покое. Ты жаждала горячего дела, ты желала отдаться любви к страдающему человечеству. Прекрасно. Я видел, что тебя сейчас же нужно ввести в такой мир, где бы ты забыла, хотя на минуту, твою личную жизнь. Я познакомил тебя с Лизаветой Петровной и молчал все время, чтобы дать тебе полную возможность самой все пережить, перебрать все и сердцем, и пониманием. Если б не маленький эпизод о квартирной хозяйке, Марье Васильевне, я — бы совсем безмолвствовал. Теперь другое дело: все, что я тебе скажу, ты можешь проверить фактами. Тебе кажется, Маша, что ты опять на краю пропасти, что для тебя нет исхода из самых жгучих сомнений; а я тебе говорю, что ты пришла теперь к такому кризису, за которым уже начинается настоящее здоровье.
Предисловие было длинно, но я с ним помириласьж
— Ты больше не веришь, что Лизавета Петровна достигнет когда-нибудь своих целей?
— Нет! — отвечала я, и у меня точно кусок оторвался в груди…
— Хвалю тебя, Маша, — продолжал Степа: — ты пришла к этому сомнению раньше, чеи я ожидал. Тебе помогла твоя восприимчивость. Ты видишь, опять нужно, во что бы то ни стало, ставить вопросы. Но можем ли мы разрешить их окончательно? Да, потому что ты не пугаешься уже выводов. В деле падших женщин Лизавета Петровна ничего не добьется, не добилась бы и ты, следуя по стопам ее. Какой принцип провозглашает она? Принцип любви. Я не сомневаюсь, что ее сердце переполнено любовью, вижу, что и ты также способна любить твоих страждущих сестер… Но ваша любовь — вещь личная; а перед вами стоит огромное общественное явление. Скажи ты мне, пожалуйста, Маша, слышала ли ты когда-нибудь от Лизаветы Петровны какое-нибудь определение того мира, которому она отдалась?
— Нет, Степа, не слыхала.
— Я так и знал. Она и сама не думала об этом. Ты, может быть, скажешь, что это все мужские затеи, всякие там формулы и мудреные слова; но вот тебе доказательство необходимости определить то, с чем борешься: ты, после самого искреннего служения, выбилась из сил и решительно не знаешь, как идти дальше.
— Бак же, Степа, ты определяешь этот мир?
— Был у меня приятель в Париже, русский человек из очень крупных, и мы с ним чуть-чуть не подрались из-за этого самого мира. Приятель мой объявляет решительно, что проституции, как общественного факта, совсем и не существует.
— Вот это прекрасно! — вскричала я. — Как же не существует?
— Выслушай. Я и стал оспаривать. Оба мы погорячились — крупно поговорили. С тех пор прошло около двух лет. Насмотрелся я в разных концах света на так называемых "падших женщин". Был я, друг мой Маша, во всевозможные трущобах: и в лондонских матросских тавернах, и в улице с des Filles-Dieu в Париже… И скажу я, что приятель мой неправ в своем радикальном отрицании; но был бы прав, если б выставил одну только половину проституции.

![Торговцы [=Торгаши]](/uploads/posts/books/187865/187865.jpg)