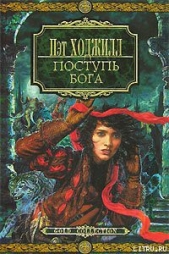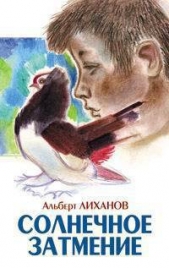Прохождение тени

Прохождение тени читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не сразу я заметила, что слепые мои товарищи боятся грозы.
Впервые я увидела здешнюю грозу из окна их комнаты. Задолго до ее начала мы перестали разговаривать; первой умолкла я, а затем затихли и они. Мы чувствовали, что в воздухе идет буйное созревание катастрофы. Мертвенный зеленоватый свет сгущался в небе, и вот настала невыносимая, отчетливая, прозрачная тишина, какая бывает в театре, когда дирижер уже поднял палочку, но музыка еще не грянула. Тишина царила за моей спиною, будто и слепые тоже затаили дыхание. Им, должно быть, казалось, что тьма, окутавшая их с рождения, -- недостаточная защита перед лицом еще большей тьмы, и вот -затаились в ее предчувствии. И тут зазвучали голоса титанов, разрывающих небесные тела, как сырое мясо, и сокрушающих душу ни на что не похожей музыкой... На небе поминутно происходили страшные, картинные обвалы облаков. Ветер, как бунтовщик, размахивал стягами волокнистых полотнищ, озаренных снизу лучами заходящего солнца, голубое небо ломилось сквозь тучи, разрываемые в клочья и тут же сраставшиеся, как будто души, растворенные в нем, с безумной силой рвались обратно на землю. Величественному действу этой грозы гораздо больше подходила равнинная местность, здесь, в этом пространстве, сокрушенном горами, грозе было тесно, не для того она копила свою графитовую мглу и собирала в нее влагу, чтобы удариться с размаху в крохотное донце города. Здесь драма грозы начиналась сразу с четвертого акта и завершалась гибелью невидимых героев-титанов, после чего в мире наступала такая тишина, как будто заодно с ними погибали и зрители.
Наша комната вздрагивала в исступленном свете молний. Слепые сидели по углам, закутавшись в одеяла, как истуканы с белыми лицами и остановившимися белыми глазами, будто молния лишь секунду назад испепелила их зрение, а гром, раскалывающий небесные тела, стремился теперь отнять последнее, что у них осталось, -- их абсолютный слух... Я закрыла окно, отодвинув яростный шум дождя, и никогда больше не оставляла их одних в майские и июньские вечера, когда сгущался озон и деревья начинали так шелестеть листьями, точно силились заговорить человеческими голосами.
Наутро после грозы Коста пришел к нам, чтобы рассказать сон, увиденный им нынешней ночью.
Его слова повергли меня в замешательство. Слепые видят, подумалось мне; парадокс, заключенный в этой фразе, вовлек мою мысль в воронку метафор, доступных личному опыту, и слова, которыми они были обозначены, рвали смысл в клочья. Сначала моя мысль, как намагниченная, вращалась на поверхности аналогий: "глухие слышат", "парализованные двигаются", "предметы ведут беседу", -- затем соскользнула глубже: "мертвые живут" и "живые мертвы", -после чего вступила в эпицентр алогизма "я -- не я", и, когда я на секунду ощутила, что "я не -- я", сознание померкло, как меркнет, наверное, помраченное песней око соловья...
Между тем Коста счел мое молчание за приглашение к рассказу и заговорил, возвращая мою фантазию в обычные пределы. "Видел" для него, как и следовало ожидать, означало "слышал".
-- Представь себе, -- молвил он, -- мне приснилась ре-минорная фантазия Моцарта, исполненная в соль-диез миноре от начала и до конца. Вообразить себе не можешь, какое это страшное неудобство: я во сне как будто пытался сдвинуть планету, желая транспонировать мелодию обратно в ре минор. Проснувшись, долго не мог прийти в себя, вспоминая это странное звучание. Если б я сам был этой мелодией, у меня возникло бы ощущение, что моя душа перебралась в чужое, незнакомое, неудобное тело. Проиграй мысленно хотя бы несколько тактов -- чувствуешь, как мелодия пытается занять чужое место?.. Теперь я понимаю, почему Шуман сошел с ума, когда все его мысли начали соскальзывать, как приговоренные, в си минор. Попробуй переведи в любую другую тональность "Лунную", от ее меланхолии не останется и следа, и лунный пейзаж исчезнет... Впрочем, -- небрежно закончил он, -- если ты не можешь этого представить, пойдем, я тебе сыграю.
Я быстро освоилась с домом Ольги Ивановны, но если обвыкание слепых в этом доме происходило путем прикосновений, то мое протекало за счет зрения и слуха. То, что видел глаз, было декорацией, которой не следовало доверять, вернее, частями декораций, подобранных из разных спектаклей, поспешно объединенных в страдающий мерцательной аритмией организм. А еще жилище ее представляло собою неверно решенную задачку по гармонии. Неточная модуляция изломанной в суставах мелодии, кое-как сплетающейся в картину обрамленного диким виноградом заката, который, собственно, и проливал угасающий свет истины на ошибки ведения гармонического голоса, ладовую чересполосицу резного красного дерева старинного буфета, переходящего в черную полировку благородного "Блютнера" и спотыкающегося об уцененные временем книги, штампованный шкаф и грубые театральные портьеры. Разные тональности, различные лады, сплошная дисгармония, но тем не менее совокупная душа этих вещей слилась в мерцающем воздухе залы.
Коста иногда играл нам на рояле. Темный воздух этой залы как нельзя более подходил Шопену или Скрябину, а слепые были самой благодарной публикой, таявшей на разных глубинах дома в мягких креслах и на диване. Но Ольга Ивановна меня мучила. Она сидела в картинной позе вождя, слушающего Гольденвейзера, по временам оживая, чтобы пальцами повторить в воздухе какую-нибудь музыкальную фразу, и я, как приступа дурноты, ждала, когда она достанет из кармана платок и поднесет его к действительно увлажнившимся глазам. Мне были непереносимы ее слезы, я видела за ними многовековую дрессуру человеческого зрения, натасканного на жест, на штамп. Этот носовой платок... Чего бы я не отдала тогда за неожиданность поступка, авантюрное проявление свободного духа... вот если бы, предположим, думала я, Ольга Ивановна отрешилась от Скрябина, выхватила из кармана револьвер и всадила пулю в изображение человека, закрытого, как подслушивающий Полоний, шторками, в своего действительно расстрелянного отца, от которого ее вынудили публично отречься на комсомольском собрании Ташкентского театра оперы и балета, куда она поступила перед войной молоденькой, начинающей солисткой, -- может быть, это бы его воскресило. Как не могли воскресить слезы. И когда однажды в конце зимней сессии я пришла к ней одна, чтобы послушать "Демона" (коробку с пластинками я давно у нее заприметила), я специально поставила свое кресло к окну, чтобы не видеть ее слез...
Я давно не слушала "Демона", а между тем это была любимая опера отца. Отец в этот год прихварывал, наверное, давала о себе знать знаменитая катастрофа на Урале, в результате которой в озерах Швеции и Канады до сих пор находят мышьяк и цезий. Мы с мамой успели улететь с объекта до аварии, а отец, работавший на ликвидации ее последствий, -- после. Очевидно, у него незаметно развилась ХЛБ. Появилась быстрая утомляемость, озноб по утрам, ороговение кожи на суставах. Письма его ко мне изменились. Из них ушло его обычное морализаторство и всегда удивлявший меня пафос, словно за его плечом стояло государство и косило в письмо свой неподкупный глаз; теперь он писал про дачный участок, который недавно получил, про приобретенный им садовый инвентарь, про то, как он уже разбил землю на несколько частей, чтобы разно рассаживать на ней растительные культуры и разно их удобрять. Как всякий истинный естествоиспытатель, он уже распланировал садовую работу на годы вперед, обложился справочниками и выписками из агрожурналов, надеясь в скором будущем опытным путем добиться максимальной урожайности этих розоцветных многосемянных и клубненосных. Он больше ни о чем меня не спрашивал, словно боялся задавать вопросы о будущем, чтоб не искушать саму судьбу...
В этой опере массовые сцены, на мой взгляд, самые замечательные. Ни прозрачный, как эфир, романс Демона, ни мелодичная песня Тамары в последнем акте, ни предсмертная ария Синодала не могут идти в сравнение по богатству музыкальной ткани с хорами, с "Ноченькой", с "Ходим мы к Арагве светлой...". Но особенной мощи и красоты хор достигает в сцене, в которой старый слуга сообщает о гибели Синодала, голоса Тамары, Демона и князя Гудала он поднимает на недосягаемую высоту музыкальности, и реплика Демона ("К тебе я стану прилетать...") низвергается с этой высоты, как горный водопад. Тамара молит отца отпустить ее в монастырскую обитель, и соболезнующий хор сразу проникается ее горем, пока отец еще пытается прибегнуть к уговорам. Как ропот, нарастает требование хора: "Благослови ее!" В этом хоре, в древнем голосе мудрости, созревает отцовская жертва: "Иди, дитя мое, под Божьей сенью отдохни..."