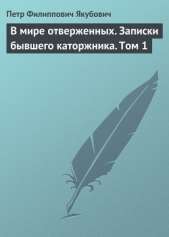В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
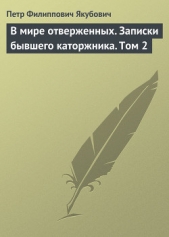
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 читать книгу онлайн
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы. Существовал и другой также закон, в силу которого человек, «забритый» в солдаты, становился уже мертвым человеком, в редких только случаях возвращавшимся к прежней свободной жизни (николаевская служба продолжалась четверть века), и не мудрено, что, по словам поэта, «ужас народа при слове набор подобен был ужасу казни»…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— «Я — атаман Буря! Кто хочет помериться со мной отвагой и силами? Гром и молния! Кто дерзнет отнять у меня любимую девушку? Я разыщу ее на дне моря, я достану ее из адской пропасти, вырву из когтей тысячи демонов! Эй, мой верный есаул, явись сюда на зов своего атамана!»
«Я здесь, доблестный атаман. Что твоей милости угодно?»
«Где мои молодцы?»
«Недалеко, в овраге за рощей…»
«Чтобы ровно к двенадцати часам, в полночь, все были готовы! Нам предстоит кровавый пир-свадьба… Разгуляем мечи наши, потешим молодецкую удаль!»
«Слушаю, храбрый атаман. Все мы за тебя с радостью головы свои положим. Но и врагу нашему несладко придется! Как коршуны налетим мы, не одну буйну голову посечем, не одну красну девицу в полон возьмем!»
И т. д., и т. д.
Арестанты, как один человек, повскакали с нар и кинулись к сцене. Это Шустер давал Сохатому даровое представление. Он начал тихим, еле слышным голосом, но, заметив произведенное впечатление, разошелся и загремел так, будто и в самом деле вообразил себя атаманом Бурей… Я тоже с любопытством прислушивался. Содержание пьесы было вполне нелепое, от начала до конца все в том же ложно-романтическом стиле, но кобылку оно приводило в неистовый восторг. Оказалось, что в Алгачах, где Шустер жил раньше около года, был один арестант, знавший наизусть всего «Царя Максимилиана» и другие подобные же пьесы неизвестных авторов, до сих пор имеющие большую популярность в нашем тюремном и солдатском мире. От него-то и перенял способный Шустер несколько сцен, особенно поразивших его воображение. Много вечеров подряд заставляли его арестанты повторять представление, а днем водили с этой же целью по другим камерам, и он исполнял свои роли с величайшим удовольствием и готовностью, расходясь все больше и больше и выкрикивая монологи атамана Бури таким раздирательно-зычным голосом, что надзиратели подходили к дверной форточке унимать его. Шустер сразу сделался одним из самых популярных людей в тюрьме; встречаясь с ним, все улыбались и говорили:
— А, атаман Буря! Как живешь-можешь? Где теперь твои молодцы-удальцы?
— Гром и молния! — отвечал обыкновенно новоявленный атаман. — Заперли меня лихие вороги в клетку железную, обрезали соколу могучие крылья… Но дождусь я своего красного дня, вырвусь на вольную волюшку — и грозна будет моя месть тем, кто предал и погубил меня!
И вокруг него тотчас же собиралась кучка любопытных. Исчезла прежняя запуганность и робость Шустера: он сделался говорливым, живым, общительным, и не раз я видел, как он сам уже сидел на ком-нибудь верхом и ставил банки…
Кобылка совсем, казалось, забыла о тех слухах, которые деятельно распускала раньше на его счет.
Со мной он держался по-прежнему почтительно, почти благоговейно, и как только я начинал заниматься со своими учениками, он присаживался потихоньку к столу и внимательно прислушивался, задавая мне время от времени разные вопросы. Кончилось тем, что я и его пригласил заниматься (раньше он несколько дней учился у Штейнгарта). Оказалось, разумеется, что он многое позабыл из того, что знал когда-то в гимназии; однако стоило ему решить несколько арифметических задач, написать несколько диктантов, и все позабытое быстро восстановилось в памяти: в письме он начал ставить правильно не только букву ять, но даже и знаки препинания. Шустер выказывал большую наклонность вступать в беседы и на другие темы, непосредственно не относившиеся к ученью, и меня поражала каждый раз глубокая искренность, звучавшая в его рассуждениях о необходимости жить честным трудом, о том, какое страшное несчастье попасть в молодые годы в каторгу, и пр. Однажды я заговорил об его прошлом, спросил, что привело его в тюрьму.
— Эх, Иван Николаевич, долго рассказывать! — вздохнул Шустер. — С тринадцати лет ведь началось это со мной… Мне самому ужасно хотелось бы все рассказать вам так, как вот попу на духу рассказывают.
— Почему хотелось бы?
— В душе уж очень много накипело, Иван Николаевич, всяких обид, унижений… Чего ведь только не пришлось мне пережить за эти десять лет! Не скрою от вас, что я и сам очень много пакостей на своем веку наделал… Не назову я себя хорошим человеком, зачем лицемерить! Но только я вполне надеюсь, что я не вовсе еще погибший человек, и попади я в хорошую компанию, я бы еще мог бросить дурные привычки. Ну, вот мне и хотелось бы все рассказать вам… Быть может, вы мне и добрый бы совет подали.
— За чем же дело стало? Хоть сейчас начинайте, я с удовольствием стану вас слушать.
— Нет, Иван Николаевич. Многое мне, пожалуй, стыдно будет вам на словах обсказывать, и я, быть может, стану привирать… А мне пришло в голову на письме описать вам свою жизнь.
— Это будет еще лучше, — с живостью ухватился я за любопытное предложение, — сумеете ли вы только?
— Думаю, что сумею. Вот бумаги только много понадобится…
За бумагой, однако, дело не стало — я согласился доставлять ее в каком угодно количестве, и работа закипела. Мне оставалось лишь удивляться, с какой быстротой Шустер исписывал тетрадку за тетрадкой и передавал мне. Я еле успевал добывать бумагу и карандаши. Содержание этой сохранившейся у меня автобиографии кажется мне довольно интересным, и я хочу целиком привести ее здесь, по возможности в подлинных выражениях. Позволяю себе делать только сокращения и чисто формальные поправки, которых к тому же и не так много. Что всего удивительнее — иностранные слова, в изобилии встречающиеся в произведении Шустера, употребляются им всегда правильно и вполне кстати.
«Отец мой был старого покроя фанатик и, несмотря на то, что много лет жил в Петербурге среди цивилизованных евреев, все-таки не расставался со своими талмудическими суевериями, которые считал законом. Древнееврейский язык, пятикнижие, талмуд и гемору {29} он знал в совершенстве и, занимаясь обучением еврейских детей всей этой премудрости, жил не только безбедно, но даже с некоторым комфортом. Зато остальные все науки он считал вздором, противным талмуду, а по-русски не умел даже подписать своего имени. Немалого труда стоило моей матери, которая была женщиной теперешнего поколения, убедить отца отдать меня в Александровскую гимназию. Но судьба с детства меня преследовала, и вот, как только исполнился мне тринадцатый год — год, в котором каждый еврей вступает в совершеннолетие, — отец взял меня из второго класса под предлогом, что в гимназии меня заставляют писать по субботам, что противно талмуду; он боялся, что благодаря этому я совсем развращусь и перестану исполнять религиозные обряды. Горько мне было бросать ученье и среду образованных людей, но делать было нечего; я вышел из гимназии с самыми пустыми знаниями. Отец определил меня в свой собственный чулочный магазин. Нужно вам сказать, что сам он ничего не понимал в этом деле, но устроил чулочную, мастерскую главным образом для того, чтобы иметь право жить в Петербурге, и много пришлось ему потратить денег сперва на то, чтобы купить диплом мастера в одном виленском еврейском обществе, а затем, не имея в самом деле никаких знаний, сдать в Санкт-Петербургской ремесленной управе проверочный экзамен. После этого он купил десять машин, по четыреста и пятьсот рублей каждую, и нанял мастериц для работы. Как видите, у отца моего водились деньги…
И вот, год спустя, я был в этой мастерской полным хозяином. Но я не чувствовал никакой склонности к торговле и, досадуя на отца за вред, который он мне причинил, относился к делу крайне небрежно: начал заводить знакомства с гуляками и помаленьку таскать деньги из магазина… Отец вскоре все это заметил и стал жестоко наказывать меня, бить, мучить, не давать есть по два, по три дня. Конечно, все эти меры только еще больше озлобляли меня; случалось, что из страха я пропадал на несколько дней из дому, меня отыскивали, и тогда следовала новая, еще более суровая расправа… Побившись со мной таким образом месяца три-четыре, отец в один прекрасный день отдал меня в ученье к знакомому ювелиру с условием, если он выучит меня в два года ювелирному искусству, заплатить ему двести рублей. Новая работа пришлась мне по душе, я начал остепеняться. Мне было у моего хозяина очень хорошо, так как никаких грязных домашних работ, как это бывает обыкновенно с мальчиками-учениками, он не заставлял меня делать. С первого же дня меня стали учить паять, шлифовать, полировать, делать цепочки и пр. Я занимался прилежно. Сам хозяин плохо умел работать, он любил зато погулять, пощеголять и мастерской своей почти не касался; зато у него был подмастерье, который очень хорошо знал свое дело, но за которым водился один грех — любовь к водке и картам. Впрочем, Богданов был честный малый, и хозяин любил его.