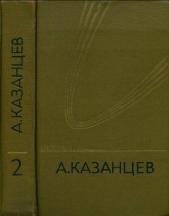Том 6. Произведения 1914-1916
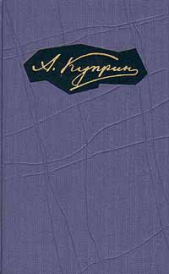
Том 6. Произведения 1914-1916 читать книгу онлайн
В шестой том вошли произведения 1914–1916 гг.: «Яма», «Капитан», «Винная бочка», «В медвежьем углу», «Святая ложь», «Брикки», «Сны», «Люция», «Запечатанные младенцы», «Фиалки», «Гад», «Гоголь-моголь», «Папаша», «Гога Веселов», «Интервью», «Груня», «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях», «Канталупы»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Горьким пьянице! — повторял князь вместе с ней последние слова и уныло покачивал склоненной набок курчавой головой, и оба они старались окончить песню так, чтобы едва уловимый трепет гитарных струи и голоса постепенно стихали и чтобы нельзя было заметить, когда кончился звук и когда настало молчание.
Зато с «Барсовой кожей», сочинением знаменитого грузинского поэта Руставели, князь Нижерадзе окончательно провалился. Прелесть поэмы, конечно, заключалась для него в том, как она звучала на родном языке, но едва только он начинал нараспев читать свои гортанные, цокающие, харкающие фразы, — Любка сначала долго тряслась от непреодолимого смеха, пока, наконец, не прыскала на всю комнату и разражалась длинным хохотом. Тогда Нижерадзе со злостью захлопывал томик обожаемого писателя и бранил Любку ишаком и верблюдом. Впрочем, они скоро мирились.
Бывали случаи, что на Нижерадзе находили припадки козлиной проказливой веселости. Он делал вид, что хочет обнять Любку, выкатывал на нее преувеличенно страстные глаза и театральным изнывающим шепотом произносил:
— Душя мой! Лучший роза в саду Аллаха! Мед и молоко на устах твоих, а дыхание твое лучше, чем аромат шашлыка. Дай мне испить блаженство нирваны из кубка твоих уст, о ты, моя лучшая тифлисская чурчхела!
А она смеялась, сердилась, била его по рукам и угрожала пожаловаться Лихонину.
— Вва! — разводил князь руками. — Что такое Лихонин? Лихонин — мой друг, мой брат и кунак. Но разве он знает, что такое любофф? Разве вы, северные люди, понимаете любофф? Это мы, грузины, созданы для любви. Смотри, Люба! Я тебе покажу сейчас, что такое любоффф! — Он сжимал кулаки, выгибался телом вперед и так зверски начинал вращать глазами, так скрежетал зубами и рычал львиным голосом, что Любку, несмотря на то, что она знала, что это шутка, охватывал детский страх, и она бросалась бежать в другую комнату.
Однако, надо сказать, что для этого парня, вообще очень невоздержанного насчет легких случайных романов, существовали особенные твердые моральные запреты, всосанные с молоком матери-грузинки, священные адаты относительно жены друга. Да и, должно быть, он понимал, — а надо сказать, что эти восточные человеки, несмотря на их кажущуюся наивность, а может быть, и благодаря ей, обладают, когда захотят, тонким душевным чутьем, — понимал, что, сделав хотя бы только на одну минуту Любку своей любовницей, он навсегда лишится этого милого, тихого семейного вечернего уюта, к которому он так привык. А он, который был на «ты» почти со всем университетом, тем не менее чувствовал себя таким одиноким в чужом городе и до сих пор чуждой для него стране!
Больше всего удовольствия доставляли эти занятия Соловьеву. Этот большой, сильный и небрежный человек как-то невольно, незаметно для самого себя, стал подчиняться тому скрытому, неуловимому, изящному обаянию женственности, которое нередко таится под самой грубой оболочкой, в самой жесткой, корявой среде. Властвовала ученица, слушался учитель. По свойствам первобытной, но зато свежей, глубокой и оригинальной души Любка была склонна не слушаться чужого метода, а изыскивать свои особенные странные приемы. Так, например, она, как многие, впрочем, дети, раньше выучилась писать, чем читать. Не она сама, кроткая и уступчивая по натуре, а какое-то особенное свойство ее ума упрямо не хотело при чтении пристегивать гласную к согласной или наоборот; в письме же у нее это выходило. К чистописанию по косым линейкам она вопреки общему обыкновению учащихся чувствовала большую склонность: писала, низко склонившись над бумагой, тяжело вздыхала, дула от старания на бумагу, точно сдувая воображаемую пыль, облизывала губы и подпирала изнутри то одну, то другую щеку языком. Соловьев не прекословил ей и шел следом по тем путям, которые пролагал ее инстинкт. И надо сказать, что он за эти полтора месяца успел привязаться всей своей огромной, раскидистой, мощной душой к этому случайному, слабому, временному существу. Это была бережная, смешная, великодушная, немного удивленная любовь и бережная забота доброго слона к хрупкому, беспомощному желтопухому цыпленку.
Чтение для них обоих было лакомством, и опять-таки выбором произведений руководил вкус Любки, а Соловьев шел только по его течению и изгибам. Так, например, Любка не одолела Дон-Кихота, устала и, наконец, отвернувшись от него, с удовольствием прослушала Робинзона и особенно обильно поплакала над сценой свидания с родственниками. Ей нравился Диккенс, и она очень легко схватывала его светлый юмор, но бытовые английские черты были ей чужды и непонятны. Читали они не раз и Чехова, и Любка свободно, без затруднения вникала в красоту его рисунка, в его улыбку и грусть. Детские рассказы ее умиляли, трогали до такой степени, что смешно и радостно было на нее глядеть. Однажды Соловьев прочитал ей чеховский рассказ «Припадок», в котором, как известно, студент впервые попадает в публичный дом и потом, на другой день, бьется, как в припадке, в спазмах острого душевного страдания и сознания общей виновности. Соловьев сам не ожидал того громадного впечатления, которое на нее произведет эта повесть. Она плакала, бранилась, всплескивала руками и все время восклицала:
— Господи? Откуда он все это берет и как ловко! Ведь точь-в-точь как у нас!
Однажды он принес с собою книжку, озаглавленную: «История Манон Леско и кавалера де Грие, сочинение аббата Прево». Надо сказать, что эту замечательную книгу сам Соловьев читал впервые, но гораздо глубже и тоньше оценила ее все-таки Любка. Отсутствие фабулы, наивность повествования, излишество сентиментальности, старомодность письма-все это вместе взятое расхолаживало Соловьева. Любка же воспринимала не только ушами, но как будто глазами и всем наивно открытым сердцем радостные, печальные» трогательные и легкомысленные детали этого причудливого бессмертного романа.
«Намерение наше обвенчаться было забыто в Сен-Дени, — читал Соловьев, низко склонив свою кудлатую, золотистую, освещенную абажуром голову над книгой, — мы преступили законы церкви и, не подумав о том, стали супругами».
— Что же это они? Самоволкой, значит? Без попа? Так? — спросила тревожно Любка, отрываясь от своих искусственных цветов.
— Конечно. Так что же? Свободная любовь, и больше никаких. Вот, как и вы с Лихониным.
— То я! Это совсем другое дело. Он взял меня, вы сами знаете, откуда. А она — барышня невинная и благородная. Это подлость с его стороны так делать. И, поверьте мне, Соловьев, он ее непременно потом бросит. Ах, бедная девушка! Ну, ну, ну, читайте дальше.
Но уже через, несколько страниц все симпатии к сожаления Любки перешли от Манон на сторону обманутого кавалера.
«Впрочем, посещения и уход украдкой г. де Б. приводили меня в смущение. Я вспомнил также небольшие покупки Манон, которые превосходили наши средства. Все это попахивало щедростью нового любовника. Но нет, нет! — повторял я, — невозможно, чтобы Манон изменила мне! Она знает, что я живу только для нее, она прекрасно знает, что я ее обожаю».
— Ах, дурачок, дурачок! — воскликнула Любка. — Да разве же не видно сразу, что она у этого богача на содержании. Ах, она дрянь какая!
И чем дальше развертывался роман, тем более живое и страстное участие принимала в нем Любка. Она ничего не имела против того, что Манон обирала при помощи любовника и брата своих очередных покровителей, а де Грие занимался шулерской игрой в притонах, но каждая ее новая измена приводила Любку в неистовство, а страдания кавалера вызывали у нее слезы. Однажды она спросила:
— Соловьев, милочка, а он кто был, этот сочинитель?
— Это был один французский священник.