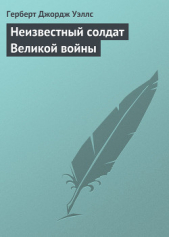Говорит Неизвестный

Говорит Неизвестный читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В день, когда умер Хрущев - и тут начинается некая метафизика и даже мистика - о его смерти я узнал от таксиста - и в тот момент, когда он мне об этом сказал, меня пронзила мысль, что мне придется делать надгробие. Как она возникла, я не знаю, но это факт.
После похорон Хрущева ко мне приехало два человека - это были сын Хрущева Сергей, с которым я до этого не был знаком, и сын Микояна, тоже Сергей, с которым я дружил и который меня поддерживал в самые тяжелые минуты.
Меня несколько раз избивали, один раз даже избили до потери сознания, и очнулся я в квартире бывшего посла Меньшикова, где узнал, что меня подобрали Микояны. Сыновья Микояна приезжали в минуты моих самых острейших разногласий с Хрущевым. Так вот, они вошли, осмотрелись и долго мялись. Я сказал: "Я знаю, зачем вы пришли, говорите!" Они сказали: "Да, вы догадались, мы хотим поручить вам сделать надгробие". Я сказал: "Хорошо, я соглашаюсь, но только ставлю условием, что я буду делать, как считаю нужным". На что Сергей Хрущев ответил: "Это естественно".
"Я знаю, - сказал я, - что найдутся такие, кто обрушится на меня за мое решение. Я считаю, что это месть искусства политике. Впрочем, это слова! В действительности, я считаю, что художник не может быть злее политика, и поэтому соглашаюсь. Вот мои аргументы. А какие у вас аргументы: почему это должен делать я?" На что Сергей Хрущев сказал: "Это завещание моего отца". Позже мы к этой теме не возвращались. Но то, что Хрущев завещал, чтобы памятник делал именно я, было подтверждено польской коммунисткой во время его открытия. Она ко мне подошла и сказала: "Никита Сергеевич не ошибся, когда завещал вам сделать ему надгробие". Это же подтвердила и Нина Петровна Хрущева.
Возвращаясь назад, я должен сказать, что верха были обескуражены этим решением Хрущева, никому не приходило в голову, что дело повернется так. И три года мне не давали возможности поставить памятник. В данном случае мне пришлось использовать все свое знание социальной структуры советского общества. Семья Хрущева тоже знала эту социальную структуру, но она знала ее сверху и, оказавшись внизу, не имела понятия, как действовать. Мой же опыт человека, находящегося всегда внизу, мне очень помог. Я, по существу, действовал личным террором...
Ни одна инстанция не брала на себя последнего слова. И мне пришлось ловко вести этот бюрократический корабль. В конце концов, я довел его до того, что приказ поставить надгробие - оно было уже готово, и все равно не решались - исходил непосредственно от Косыгина. Это была сложная, ювелирная социальная работа.
Дело в том, что деньгм, которые были отпущены на надгробие Хрущеву, предусматривали просто одну плиту с надписью, этого никто не боялся. Никто не предполагал, что обратятся ко мне. И никто не думал, что я соглашусь за очень небольшой гонорар сделать такую большую и дорогостоящую работу. И уж совсем никто не предполагал, что эта работа будет не просто бюст, нейтральная вещь, но в этой работе будет и мое отношение к Хрущеву, как к дуалистической фигуре, стоящей на границе двух времен, как фигуре, содержавшей в себе реальные противоречия. В общем, надгробие получилось весьма дискуссионным. И, естественно, не могло не натолкнуться на сопротивление. Что происходило? Верха скидывали решение вниз, а низы ждали приказа сверху. В мою задачу входило спровоцировать верха принять решение, и я провоцировал это решение, как знал, вплоть до того, что главный архитектор города мне сказал: "Вы занимаетесь шантажом". Я сказал: "Да".
А к чему сводился шантаж?
Я объяснял инстанциям: "Вы не даете мне установить надгробие совсем не потому, что у вас есть приказ - не ставить. Если бы это было так, вы бы со мной просто не разговаривали". Но нет, они разговаривали. И требовали, чтобы я изменил надгробие. Ну, например, сделал не черное и белое, а хотя бы серое, а еще лучше - просто портрет на канонической подставке. А самое лучшее - убрать портрет и оставить лишь надпись - словом, тысяча вариантов. Так вот, я говорил: "Раз вы со мной ведете переговоры, значит, нет решения верхов. Я скажу, чего вам надо бояться: если вы затянете дело - а Брежнев скоро едет на Запад, - я дам интервью, что он мне запрещает ставить надгробие Хрущеву. А он - ни слухом, ни духом. Когда возникнет скандал, я скажу, что виновато Главное архитектурное управление, во главе с Посохиным. И тогда попросят Тяпкина-Ляпкина - вот чего вам надо бояться, поэтому принимайте решение".
В конце концов, эти чиновники откровенно мне объяснили, что они действительно боятся, и советуют мне самому обратиться наверх. Тогда-то я и попросил Нину Петровну написать Косыгину. И когда она обратилась к нему, он разрешил. Я думаю, что для них, этих маленьких "аппаратчиков", это был праздник больший, чем для меня. Они чуть меня не целовали за то, что получили, наконец, приказ сверху поставить надгробие.
Открытие памятника происходило под дождем в третью годовщину смерти Хрущева в 1974 году. Были все члены его семьи и корреспонденты, была охрана. Никого не пускали на кладбище. Приехал Евтушенко, который пытался быть в центре внимания. Никто не произносил речей. И когда члены семьи повернулись и ушли, потому что им не нравилось, что Евтушенко произносит речи, в то время как они молчат, - я с Сергеем Хрущевым и пятью своими друзьями поехал на квартиру к Сергею. Он достал бутылку коньяка, которую Хрущеву подарил де Голль какого-то столетнего коньяка - и сказал: "Вот мой отец никогда не решился выпить этот дорогой коньяк. Сейчас мы выпьем его сами". И мы распили эту бутылку коньяка.
Сейчас, когда я уже несколько лет на Западе, я все чаще задаю себе вопрос: что же меня заставило покинуть Россию?
Главными, разумеется, были внутренние расхождения с советским мировоззрением. Нет, не в политическом плане, хотя в политическом они тоже были. Но основные мои расхождения с режимом носили, скорее, метафизический характер.
Я отношусь к искусству, как к метафизическому явлению - чего вообще не могли понять советские идеологи. В СССР я мог делать большие официальные вещи, использовать свои формальные приемы, но не мог делать того, что хотел. Я сам себе напоминал актера, который всю жизнь мечтает сыграть Гамлета, но ему не давали, и лишь когда он состарился и захотел играть короля Лира, ему предложили роль Гамлета. Формально это была победа, но внутренне - поражение.
Мне в семьдесят втором - семьдесят пятом годах предлагали делать те работы, за которые я дрался в шестьдесят втором. А то, что я делаю сейчас, не хотели даже видеть. Однако все это - лишь внешняя, прагматическая сторона дела.
Я бы хотел остановиться на глубинных, метафизических или, если хотите, на эстетических разногласиях с режимом.
Как я теперь понимаю, истоки моего разочарования уходят в прошлое, в послевоенные годы, когда я вернулся с фронта домой. Воспитанный в определенном смысле романтически, я продолжал цепляться за прежние юношеские представления о жизни. Если власть и не была любима мной, то, по крайней мере, я хотел ее видеть в качестве грозной и демонической силы. А на протяжении всей своей жизни я встречался с обыкновенным, распущенным люмпеном, который занимал гигантские посты. И больше того, в сознании народном и мировом являлся героем. И вот этот разрыв между правдой истории, правдой победы, морем крови и невзрачнос-тью, мелкотравчатостью, вульгарностью "представителей" истории ранил меня. Так, пожалуй, закладывалось мое основное, внутреннее противоречие со сложившейся властью и теми, кто ее олицетворял на всех уровнях.
Довольно долго и у меня были иллюзии - не иллюзии, связанные с их нравственностью или принципиальностью. Я никогда не думал, что это нравственные, принципиальные люди. Я всегда знал, что история - это не девушка, и в ней было очень много насильников, злодеев и садистов, но я не представлял, что великую державу, весь мир и саму историю могут насиловать столь невзрачные гномики, столь маленькие кухонные карлики, и это меня всякий раз оскорбляло. Я был согласен на ужас, но мне нужно было, чтобы этот ужас был сколько-нибудь эстетичен. Этот же, бытовой, мещанский ужас людоедов в пиджаках, варящихся в собственной лжи, морально разрушал меня.