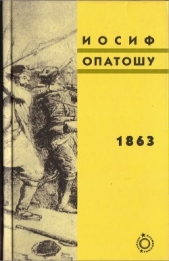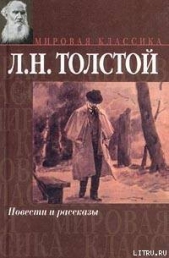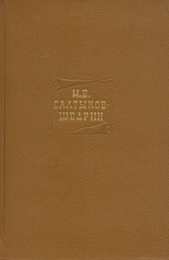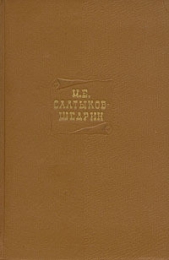Том 3. Произведения 1857-1863 гг

Том 3. Произведения 1857-1863 гг читать книгу онлайн
В том вошли повести и рассказы 1857–1863 гг. Среди них — «Альберт», «Три смерти», «Семейное счастие», «Казаки», «Поликушка» и др.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что я тебе сказать хотел… ей-богу!.. — Голос его дрожал и прерывался.
— Каки разговоры нашел по ночам, — отвечала Марьяна. — Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди.
И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и оборотилась к казаку, который бежал с ней рядом, продолжая уговаривать ее подождать на часок.
— Ну, что сказать хотел, полуночник? — И она опять засмеялась.
— Ты не смейся надо мной, Марьяна! Ей-богу! Что ж, что у меня душенька есть? А черт ее возьми. Только слово скажи, уж так любить буду — что хошь, то и сделаю. Вон они! (И он погремел деньгами в кармане.) Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!
Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку.
Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы.
— Да и что все ждать да ждать! Я ли тебя не люблю, матушка! Что хочешь надо мной делай, — вдруг сказал он, злобно хмурясь, и схватил ее за обе руки.
Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса.
— Ты не куражься, Лукашка, а слушай ты мои слова, — отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака. — Известно, я девка, а ты меня слушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься, — сказала Марьяна, не отворачивая лица.
— Что замуж пойдешь? Замуж — не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка, — говорил Лукашка, вдруг из мрачного и рьяного сделавшись опять кротким, покорным и нежным, улыбаясь и близко глядя в ее глаза.
Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы.
— Братец! — прошептала она, порывисто прижимая его к себе. Потом вдруг, вырвавшись, побежала и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома.
Несмотря на просьбы казака подождать еще минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась.
— Иди! Увидят! — проговорила она. — Вон и то, кажись, постоялец наш, черт, по двору ходит.
«Хорунжиха, — думал себе Лукашка, — замуж пойдет! Замуж само собой, а ты полюби меня».
Он застал Назарку у Ямки и, с ним вместе погуляв, пошел к Дуняшке и, несмотря на ее неверность, ночевал у нее.
XIV
Действительно, Оленин ходил по двору в то время, как Марьяна прошла в ворота, и слышал, как она сказала: «Постоялец-то, черт, ходит». Весь этот вечер провел он с дядей Ерошкой на крыльце своей повой квартиры. Он велел вынести стол, самовар, вино, зажженную свечу и за стаканом чая и сигарой слушал рассказы старика, усевшегося у его ног на приступочке. Несмотря на то, что воздух был тих, свеча плыла и огонь метался в разные стороны, освещая то столбик крылечка, то стол и посуду, то белую стриженую голову старика. Ночные бабочки вились и, сыпля пыль с крылышек, бились по столу и в стаканах, то влетали в огонь свечи, то исчезали в черном воздухе, вне освещенного круга. Оленин выпил с Ерошкой вдвоем пять бутылок чихиря. Ерошка всякий раз, наливая стаканы, подносил один Оленину, здороваясь с ним, и говорил без устали. Он рассказывал про старое житье казаков, про своего батюшку Широкого, который один на спине приносил кабанью тушу в десять пуд и выпивал в один присест два ведра чихирю. Рассказал про свое времечко и своего няню [43] Гирчика, с которым он из-за Тереку во время чумы бурки переправлял. Рассказал про охоту, на которой он в одно утро двух оленей убил. Рассказал про свою душеньку, которая за ним по ночам на кордон бегала. И все это так красноречиво и живописно рассказывалось, что Оленин не замечал, как проходило время.
— Так-то, отец ты мой, — говорил он, — не застал ты меня в мое золотое времечко, я бы тебе все показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, а то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь, у кого шашка гурда, [44] к кому выпить пойти, с кем погулять? Кого в горы послать, Ахмет-хана убить? Все Ерошка. Кого девки любят? Все Ерошка отвечал. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник; на все руки был. Нынче уж и казаков таких нету. Глядеть скверно. От земли вот (Ерошка указал на аршин от земли), сапоги дурацкие наденет, все на них смотрит, только и радости. Иль пьян надуется; да и напьется не как человек, а так что-то. А я кто был? Я был Ерошка-вор; меня, мало по станицам, — в горах-то знали. Кунаки-князья приезжали. Я, бывало, со всеми кунак: татарин — татарин, армяшка — армяшка, солдат — солдат, офицер — офицер. Мне все равно, только бы пьяница был. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщенья: с солдатом не пей, с татарином не ешь.
— Кто это говорит? — спросил Оленин.
— А уставщики наши. А муллу или кадия татарского послушай. Он говорит: «Вы неверные, гяуры, зачем свинью едите!» Значит, всякий свой закон держит. А по-моему, все одно. Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь, — прибавил он, помолчав.
— Что фальшь? — спросил Оленин.
— Да что уставщики говорят. У нас, отец мой, в Червленой, войсковой старшина — кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет на могилке, вот и все. (Старик засмеялся.) Отчаянный был!
— А сколько тебе лет? — спросил Оленин.
— А бог е знает! Годов семьдесят есть. Как у вас царица была, я уже не махонький был. Вот ты и считай, много ли будет. Годов семьдесят будет?
— Будет. А ты еще молодец.
— Что же, благодарю бога, я здоров, всем здоров; только баба, ведьма, испортила…
— Как?
— Да так испортила…
— Так, как умрешь, трава вырастет? — повторил Оленин.
Ерошка, видимо, не хотел ясно выразить свою мысль. Он помолчал немного.
— А ты как думал? Пей! — закричал он, улыбаясь и поднося вино.
XV
— Так о чем бишь я говорил? — продолжал он, припоминая. — Так вот я какой человек! Я охотник. Против меня другого охотника по полку нету. Я тебе всякого зверя, всяку птицу найду и укажу; и что и где — все знаю. У меня и собаки есть, и два ружья есть, и сети, и кобылка, и ястреб, — все есть, благодарю бога. Коли ты настоящий охотник, не хвастаешь, я тебе все покажу. Я какой человек? След найду, — уж я его знаю, зверя, и знаю, где ему лечь и куда пить или валяться придет. Лопазик [45] сделаю и сижу ночь, караулю. Что дома-то сидеть! Только нагрешишь, пьян надуешься. Еще бабы тут придут, тары да бары; мальчишки кричат; угоришь еще. То ли дело, на зорьке выйдешь, местечко выберешь, камыш прижмешь, сядешь и сидишь, добрый молодец, дожидаешься. Все-то ты знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь — звездочки ходят, рассматриваешь по ним, гляди, времени много ли. Кругом поглядишь — лес шелыхается, все ждешь, вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи ли в станице откликнутся, или гуси. Гуси — так до полночи, значит. И все это я знаю. А то как ружье где далече ударит, мысли придут. Подумаешь: кто это стрелил? Казак, так же как я, зверя выждал, и попал ли он его, или так только, испортил, и пойдет, сердечный, по камышу кровь мазать так, даром. Не люблю! ох, не люблю! Зачем зверя испортил? Дурак! Дурак! Или думаешь себе: «Может, абрек какого казачонка глупого убил». Все это в голове у тебя ходит. А то раз сидел я на воде; смотрю — зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой черт: взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Все сидишь, думаешь. Да как заслышишь, по чаще табунок ломится, так и застучит в тебе что. Матушки, подойдите! Обнюхают, думаешь себе; сидишь, не дрогнешься, а сердце: дун! дун! дун! Так тебя и подкидывает. Нынче весной так-то подошел табун важный, зачернелся. «Отцу и сыну…» — уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят: «Беда, мол, детки: человек сидит», — и затрещали все прочь по кустам. Так так бы, кажется, зубом съел ее.