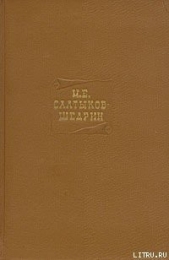Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849
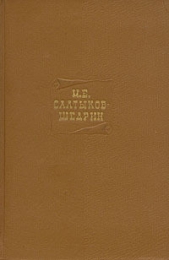
Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В первый том входят произведения Салтыкова 1840–1849 годов, открывающие творческую и политическую биографию писателя. От подражательной романтики юношеских стихотворений к реализму и демократической настроенности «Запутанного дела» и «Брусина» — таков путь литературно-общественного развития молодого Салтыкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Валинском это трезвое понимание действительности доведено до высшей степени просветления; оно не осталось для него бесплодным отвлечением, а проникло в жизнь его, приняло плоть и кровь. Натура его как-то естественно, бессознательно поддается данному порядку вещей и с редкою проницательностью находит смысл и связь в явлениях совершенно, по-видимому, разрывчатых, нейдущих об руку. Поэтому никогда не слыхал я от него ни жалобы, ни ропота; поэтому со всеми он одинаково естествен и прост; богатому и бедному — всем равно и с тем же радушием — протягивает он руку свою, понимая, что как тот, так и другой чисты от нареканий, и тот и другой оправданы вполне гнетущею их действительностью.
Да! это не то, что мы с вами, хоть и мы хорошие люди!
И сообщество Валинского принесло мне действительно неоцененную пользу. В самом деле, иногда так неприятно слагаются в жизни обстоятельства, что невольно смотришь на все с черной, неприязненной точки. Тут-то, в эти грустные минуты, непременно нужен человек, который откровенным, неуклончивым взглядом на вещи рассеял бы все сомнения, вытолкнул бы вновь на прямую дорогу, — и Валинский вполне соответствует этому назначению.
На днях как-то вечером сидели мы оба дома. Конечно, наши сентябрьские вечера, особливо под конец месяца, не то чтоб пленяли особенною приятностью; конечно, и изморось грустная, мелкая и холодная дребезжит в окно; конечно, и город представляет неприятный вид с поднятыми шинелями пешеходов, с их зонтиками, калошами и прочим дрязгом; все это так, но всего этого ожидать было должно, все это в порядке вещей, и, следовательно, не на что бы, казалось, сердиться. Однако ж, с другой стороны, и рассердиться весьма натурально, потому что такое стечение обстоятельств подавляет душу человека, осуждает ее на бездействие, налагает несносную тяжесть на все существо его…
И я действительно рассердился.
— Владимир Иваныч, — сказал я, — объясните мне, пожалуйста, отчего бы это такое скверное время? ведь это, право, на смех да в пику бедному человеку.
Но Валинский не отвечал.
— Владимир Иваныч, — продолжал я, — скажите мне, от чего бы это люди в каретах ездят, а мы с вами пешком по грязи ходим?
То же упорное молчание.
— Владимир Иваныч! да что ж, спите вы, что ли?
— Любезный друг, оставьте меня, пожалуйста, в покое! Вы, кажется, имеете поползновение заниматься различными социальными вопросами, а на меня ненастье дремоту наводит. Я думаю, что гораздо было бы лучше, если б все ездили в каретах… а впрочем, знаете ли что? уж не испорчен ли у вас желудок, что вы сегодня в таком мрачном расположении духа?.. Я знаю прекрасное лекарство…
Но, признаюсь, в эту минуту мне было не до шуток: истинная меланхолия овладела мною, так что я готов был хоть в воду, только бы избавиться от этого несносного положения.
— Вы вечно с своими неуместными шутками, — сказал я, — вечно с своим оптимистским взглядом на вещи!.. Но, боже мой, скажите же, где эта жизнь, где разнообразие, о котором так много говорят, так много пишут? Нет, в жизни только пустота, а разнообразие только в книгах!
— И все это по поводу дождя! — сказал Валинский, — так вам очень досадно, что вы не ездите в карете?
— Ах, боже мой! да не во мне сила, Владимир Иваныч! В основании этих жалоб лежит нечто высшее, нежели мой личный эгоизм: этим порядком вещей оскорбляется идея справедливости, врожденная мне… Скажите, отчего и А, и В, и С, и сотни других, один другого ничтожнее, один другого презреннее, будут спокойно и без труда наслаждаться жизнью, тогда как мы просиживаем долгие, бессонные ночи, чтоб добыть себе черствый кусок хлеба?.. И будет жизнь этим людям сладка, и придут они самым естественным образом к тому глупому пристанищу, название которого вы можете встретить на губах у каждого, кто в жизнь свою только и думал о том, как бы повернее надуть и обокрасть своего ближнего.
— Да ведь все это есть, любезный друг; поставьте же вы себя на месте этих А и В и С: отказались ли бы вы ездить в карете? пожертвовали ли бы вы собою или богатством своим — что решительно все равно — в пользу человечества? Вы желаете счастья — похвально; но ведь и другой ищет его!
— Да, вы очень приятно рассуждаете, Владимир Иваныч; вы стократ счастливы, что, не пускаясь в дальнейшие рассуждения, приняли жизнь, как она есть, и с философским равнодушием доказываете, что нет в мире ничего произвольного!
— Послушайте, Андрей Павлыч, — сказал Валинский, — вы не совсем справедливы ко мне: я вовсе не так холоден, как кажусь… да, вот, видите ли, жалобы ни к чему не ведут… Знаете ли что? я бы серьезно советовал вам заняться чем-нибудь; людям в нашем положении не годится думать об удовольствиях: это только горячит кровь и расстраивает воображение без всякой пользы; нам надобно трудиться, много трудиться, чтоб в труде забыть все, что нас окружает… В наше время трудно и даже невозможно быть полным человеком: надо быть или материалистом, или спиритуалистом… я бы охотнее желал быть первым, но для этого нужно иметь поболее моего дохода, и потому, хотя в душе я и признаю все права материи, но в жизни иногда поневоле бываешь спиритуалистом, потому что часто эта одна сторона только и возможна…
— Трудиться!.. да, трудиться!.. Однако ж это странно: ведь есть же люди, которым жизнь легка, которым каждый миг есть новая радость, новое удовольствие…
— Едва ли; а если и есть такие, то, во всяком случае, в тысячу раз более таких, которые несравненно несчастнее даже нас с вами.
— Несчастнее? да; есть многие, которые, может быть, в эту самую минуту умирают от голода и холода!.. Однако ж зачем давать воспитание? зачем развивать потребность новой, лучшей жизни? Уж если так тесно жить на свете, не лучше ли было бы заранее заглушить в человеке все человеческие чувствования? Тогда, по крайней мере, мы не понимали бы всей глубины нашего несчастия!..
— Так, разумеется, так, — отвечал Валинский, — но, к счастию, человечество не рассуждает так… Во всем этом верно и несомненно только одно — что, при известных обстоятельствах, самые лучшие явления имеют самые гибельные последствия. А жаловаться-то все-таки не на кого…
Что касается до Маши… но прежде позвольте мне рассказать обстоятельства, в которых я познакомился с нею.
Вскоре после приезда моего в Москву, у Вертоградовых готовилось большое торжество: Фома Фомич получил чин коллежского асессора и намеревался отпраздновать его достойным образом. Можете представить себе, какой переворот во всем семействе должен был произвести этот вожделенный чин, предмет столь долгих и томительных ожиданий бедного Вертоградова, который, между нами будь сказано, происхождения не дворянского, как это достаточно показывает и фамилия его.
И действительно, с самого утра в доме все было вычищено; целый день горел на кухне неугасаемый огонь, и Авдотья Захарьевна, хозяйка дома, уподобясь весталке-хранительнице этого священного огня, без устали бегала из угла в угол, занимаясь стряпнею пирогов и других великолепных вещей. Уже с шести часов все в доме было готово, и жильцы были одеты самым параднейшим образом, хотя приглашение было к восьми часам и только на чашку чая. Ну, и мы с Валинским начали было одеваться; смотрим, ан к нам явился Петя Блинов — помните, глупый студент?
— Что, будете у Вертоградова?
— Будем, будем! а ты за нами?
— Да, за вами; хорошо, говорят, будет; Марья Фоминишна на фортепьяно будет играть; всего кучу наготовили, и пуншу много будет: и с ромом, и с кизляркой…
— А тебе бы только пуншу! Закури же трубку, пока время есть.
Но было только семь часов с половиной; Блинов закурил трубку и сел; разговор наш, от полноты трепетного ожидания, как-то не клеился.
— Что, ты был вчера у Сережи Сюртукова? — обратился ко мне Блинов.
— Был; да ведь ты сам меня там видел…
— Да, да; я и забыл.
Молчание.
— Так-то-с, почтеннейший Андрей Павлыч, — сказал опять Блинов, выкурив трубку.
— Да, — отвечал я, — не хочешь ли еще трубочку?