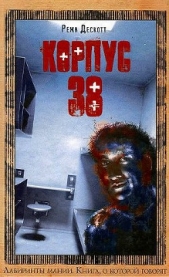Раковый корпус
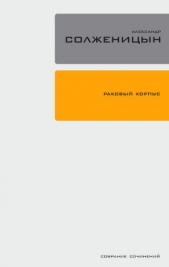
Раковый корпус читать книгу онлайн
В третьем томе 30-томного Собрания сочинений печатается повесть «Раковый корпус». Сосланный «навечно» в казахский аул после отбытия 8-летнего заключения, больной раком Солженицын получает разрешение пройти курс лечения в онкологическом диспансере Ташкента. Там, летом 1954 года, и задумана повесть. Замысел лежал без движения почти 10 лет. Начав писать в 1963 году, автор вплотную работал над повестью с осени 1965 до осени 1967 года. Попытки «Нового мира» Твардовского напечатать «Раковый корпус» были твердо пресечены властями, но текст распространился в Самиздате и в 1968 году был опубликован по-русски за границей. Переведен практически на все европейские языки и на ряд азиатских. На родине впервые напечатан в 1990.
В основе повести – личный опыт и наблюдения автора. Больные «ракового корпуса» – люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев. Читатель становится свидетелем борения с болезнью, попыток осмысления жизни и смерти; с волнением следит за робкой сменой общественной обстановки после смерти Сталина, когда страна будто начала обретать сознание после страшной болезни. В героях повести, населяющих одну больничную палату, воплощены боль и надежды России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Они стали проходить большое служебное помещение, где за многими канцелярскими столами сидела интеллигенция – старые бухгалтеры с бородами, как у попов, и с галстуками; инженеры с молоточками в петлицах; пожилые дамы, как барыни; и машинистки молоденькие накрашенные, в юбках выше колен. Как только они со Звейнеком вошли, чётко выстукивая в четыре сапога, так все эти человек тридцать обернулись к ним, некоторые привставали, другие кланялись сидя, – и все вращали головами за ними, пока они шли, и на лицах у всех был испуг, а Павлу с Яном это льстило.
Они зашли в следующую комнату и здоровались с другими членами комиссии и рассаживались за столом, папки на красную скатерть.
«Ну, запускайте!» – распорядился Венька, председатель.
Запустили. Первая вошла тётя Груша из прессового цеха.
«Тётя Груша, а ты чего? – удивился Венька. – Ведь мы – аппарат чистим, а ты чего? Ты в аппарат, что ли, пролезла?»
И все рассмеялись.
«Да нет, видишь, – не робела тётя Груша. – У меня дочка подрастает, надо бы дочку в садик устроить, а?»
«Хорошо, тётя Груша! – крикнул Павел. – Пиши заявление, устроим. Дочку – устроим! А сейчас не мешай, мы интеллигенцию чистить будем!»
И потянулся налить себе воды из графина – но графин оказался пустой. Тогда он кивнул соседу, чтобы передали ему графин с того конца стола. Передали, но и он был пустой.
А пить хотелось так, что всё горло жгло.
– Пить! – попросил он. – Пить!
– Сейчас, – сказала доктор Гангарт, – сейчас принесут воды.
Русанов открыл глаза. Она сидела около него на постели.
– У меня в тумбочке – компот, – слабо произнёс Павел Николаевич. Его знобило, ломало, а в голове стукало тяжело.
– Ну, компота вам нальём, – улыбнулась Гангарт тоненькими губами. Она сама открыла тумбочку, доставая бутылку компота и стакан.
В окнах угадывался вечерний солнечный свет.
Павел Николаевич покосился, как Гангарт наливает ему компот. Чтоб чего-нибудь не подсыпала.
Кисло-сладкий компот был пронизывающе-приятный. Павел Николаевич с подушки из рук Гангарт выцедил весь стакан.
– Сегодня плохо мне было, – пожаловался он.
– Нет, вы ничего перенесли, – не согласилась Гангарт. – Просто сегодня мы увеличили вам дозу.
Новое подозрение кольнуло Русанова.
– И что, каждый раз будете увеличивать?
– Теперь всё время будет такая. Вы привыкнете, вам будет легче.
А опухоль-жаба сидела под челюстью, как и сидела.
– А Верховный…? – начал он и подрезался.
Он уже путал, о чём в бреду, о чём наяву.
17
Вера Корнильевна безпокоилась, как Русанов перенесёт полную дозу, за день наведывалась несколько раз и задержалась после конца работы. Она могла бы так часто не приходить, если бы дежурила Олимпиада Владиславовна, как было по графику, но её таки взяли на курсы профказначеев, вместо неё сегодня днём дежурил Тургун, а он был слишком безпечен.
Русанов перенёс укол тяжеловато, однако в допустимых пределах. Вслед за уколом он получил снотворное и не просыпался, но безпокойно ворочался, дёргался, стонал. Всякий раз Вера Корнильевна оставалась понаблюдать за ним и слушала его пульс. Он корчился и снова вытягивал ноги. Лицо его покраснело, взмокло. Без очков, да ещё на подушке, голова его не имела начальственного вида. Редкие белые волосики, уцелевшие от облысения, были разлизаны по темени.
Но, столько раз ходя в палату, Вера Корнильевна заодно делала и другие дела. Выписывался Поддуев, который считался старостой палаты, и хотя должность эта существовала ни для чего, однако полагалась. И, от койки Русанова перейдя по соседству к следующей, Вера Корнильевна объявила:
– Костоглотов. С сегодняшнего дня вы назначаетесь старостой палаты.
Костоглотов лежал поверх одеяла одетый и читал газету (уж второй раз Гангарт приходила, а он всё читал газету). Всегда ожидая от него какого-нибудь выпада, Гангарт сопроводила свою фразу лёгкой улыбкой, как бы объясняя, что и сама понимает, что всё это ни к чему. Костоглотов поднял от газеты весёлое лицо и, не зная, как лучше выразить уважение к врачу, подтянул к себе слишком вытянутые по кровати длинные ноги. Вид его был очень благожелательный, а сказал он:
– Вера Корнильевна! Вы хотите нанести мне непоправимый моральный урон. Никакой администратор не свободен от ошибок, а иногда и впадает в соблазн власти. Поэтому я после многолетних размышлений дал себе обет никогда больше не занимать административных должностей.
– А вы занимали? И высокие? – Она входила в забаву разговора с ним.
– Самая высокая была – помкомвзвода. Но фактически даже ещё выше. Моего командира взвода за полную тупость и неспособность отправили на курсы усовершенствования, откуда он должен был выйти не ниже как командиром батареи – но уже не к нам в дивизион. А другого офицера, которого вместо него прислали, сразу пристегнули к политотделу сверх штата. Комдив мой не возражал, потому что я приличный был топограф, и ребята меня слушались. И так я в звании старшего сержанта два года был и. о. комвзвода – от Ельца до Франкфурта-на-Одере. И кстати, это были лучшие годы всей моей жизни, как ни смешно.
Всё-таки и с поджатыми ногами получалось невежливо, он спустил их на пол.
– Ну, вот видите, – улыбка расположения не сходила с лица Гангарт и когда она слушала его и когда сама говорила. – Зачем же вы отказываетесь? Вам опять будет хорошо.
– Славненькая логика! – мне хорошо! А демократия? Вы же попираете принципы демократии: палата меня не выбирала, избиратели не знают даже моей биографии… Кстати, и вы не знаете…
– Ну что ж, расскажите.
Она вообще негромко говорила, и он снизил голос для неё одной. Русанов спал, Зацырко читал, койка Поддуева была уже пуста, – их почти и не слышали.
– Это очень долго. И потом, я смущён, что я сижу, а вы стоите. Так не разговаривают с женщинами. Но если я, как солдат, стану сейчас в проходе, будет ещё глупей. Вы присядьте на мою койку, пожалуйста.
– Вообще-то мне идти надо, – сказала она. И села на краешек.
– Видите, Вера Корнильевна, за приверженность демократии я больше всего в жизни пострадал. Я пытался насаждать демократию в армии – то есть много рассуждал. За это меня в 39-м не послали в училище, оставили рядовым. А в 40-м уже доехал до училища, так сдерзил начальству там, и оттуда отчислили. И только в 41-м кой-как кончил курсы младших командиров на Дальнем Востоке. Честно говоря, очень досадно было мне, что я не офицер, все мои друзья пошли в офицеры. В молодости это как-то переживаешь. Но справедливость я ценил выше.
– У меня один близкий человек, – сказала Гангарт, глядя в одеяло, – тоже имел такую судьбу: очень развитой – и рядовой. – Полпаузы, миг молчания пролетел меж их головами, и она подняла глаза. – Но вы и сегодня таким остались.
– То есть: рядовым или развитым?
– Дерзким. Как, например, вы всегда разговариваете с врачами? Со мной особенно.
Она строго это спросила, но странная была у неё строгость, вся пропитанная мелодичностью, как все слова и движения Веры Гангарт.
– Я – с вами? Я с вами разговариваю исключительно почтительно. Это у меня высшая форма разговора, вы ещё не знаете. А если вы имеете в виду первый день, так вы не представляете, в каких же я был клещах. Еле-еле меня, умирающего, выпустили из области. Приехал сюда – тут вместо зимы дождь-проливняк, а у меня – валенки под мышкой, у нас же там морозяра. Шинель намокла, хоть отжимай. Валенки сдал в камеру хранения, сел в трамвай ехать в старый город, там у меня ещё с фронта адрес моего солдата. А уже темно, весь трамвай отговаривает: не идите, зарежут! После амнистии 53-го года, когда всю шпану выпустили, никак её опять не выловят. А я ещё не был уверен, тут ли мой солдат, и улица такая, что никто её не знает. Пошёл по гостиницам. Такие красивые вестибюли в гостиницах, просто стыдно моими ногами входить, и кое-где даже места были, но вместо паспорта протяну своё ссыльное удостоверение – «нельзя!», «нельзя!». Ну, что делать? Умирать я был готов, но почему же под забором? Иду прямо в милицию: «Слушайте, я – ваш. Устраивайте меня ночевать». Перемялись, говорят: «Идите в чайхану и ночуйте, мы там документов не проверяем». Но не нашёл я чайханы, поехал опять на вокзал. Спать нельзя, милиционер ходит-гоняет. Утром – к вам в амбулаторию. Очередь. Посмотрели – сейчас же ложиться. Теперь двумя трамваями через весь город – в комендатуру. Так рабочий день по всему Советскому Союзу – а комендант ушёл, и наплевать. И никакой запиской он ссыльных не удостаивает: может придёт, может нет. Тут я сообразил: если я ему удостоверение отдам – мне, пожалуй, валенок на вокзале не выдадут. Значит, двумя трамваями опять на вокзал. Каждая поездка – полтора часа.