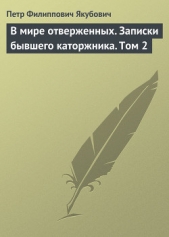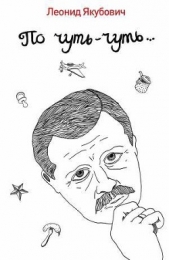В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
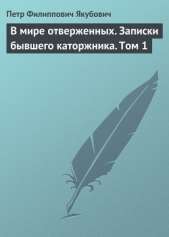
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1 читать книгу онлайн
Среди литературы, посвященной царской каторге второй половины XIX века, главным образом документальной, очерковой, этнографической, специальной (Чехов, Максимов, Дж. Кеннан, Миролюбов, Ядринцев, Дорошевич, Лобас, Фойницкий и др.), ни одна книга не вызвала такой оживленной полемики, как «В мире отверженных». В литературном отношении она была почти единодушно признана выдающимся художественным произведением, достойным стоять рядом с «Записками из мертвого дома» Достоевского. Сам Якубович, скромно оценивая свой труд, признавал, что его замысел сложился под влиянием замечательного творения Достоевского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XIII. Чирок
Мне живо помнится один вечер. В камере шел обычнейший разговор о том, что «у нас-де дурное правительство — не выпускает арестантов на волю, а держит их до срока в тюрьме и всячески стязает». Кто-то спросил меня: что я об этом думаю? Признаюсь, я затруднился ответом на заданный так прямо вопрос.
— Ну, кого б вы из нас выпустили? — смеясь, спросил Гончаров. — Вот сейчас кого бы на волю выпустили?
Я оглянулся кругом и назвал своего соседа Кузьму Чирка, предмет общих шуток и насмешек, человека, казалось мне, вполне безобидного, попавшего в каторгу по какой-нибудь судебной ошибке. Все разразились оглушительным хохотом при моем ответе.
— Вот нашли черта! Да знаете ль вы, сколько он народу побил? Он не сказывал вам? Вы не смотрите, что он тихонький да ласковый, как теленок. В этой пермяцкой голове много хитрости заложено!
— Не верь, не верь, Миколаич! — закричал Чирок, лукаво ухмыляясь, — правду ты истинную молвил, святую правду. Давно б такого старичонку, как я, выпустить на волю пора!
— Да! чтоб ты еще пятерых спать навеки уклал?
— А разве вы пятерых, Чирок, уложили? — спросил я.
— Слухай ты их, Миколаич, они тебе наскажут. Я совсем безвинно страдаю.
— За что же?
— За брата. Он полюбовницу убил, а я подсобил ему в мужнин погреб ее спустить.
— Да, живую спустить подсобил.
— О, дьявол чернопазый! Чего врешь? Живую… И не дыхала даже, удавлена была! За что ж бы меня на одиннадцать всего лет засудили, а Егоршу на восемнадцать? За укрывательство только одно и пришел я в каторгу.
— Ну, а расскажи, брат, как ты черемиса-то задавил.
— Какого там еще черемиса?
— Да такого, за воз-то сена…
— Молчи, дьявол, молчи! Ведь он запишет, Миколаич-то…
— Нет, не запишу, Чирок, расскажите.
— Не омманешь?
— Не обману. За что вы его задавили?
— За шею, вестимо… Как же не задавить было проклятого? Поехали мы с Егоршей да с другим еще братишкой, Васькой, по сено… то-ись по чужое. Вот наворотили два огромадных воза и едем домой. А навстречу черемис этот самый. Как тут быть? Что тут делать? Оставить так — донесет ведь шельма, в тюрьму придется идти. Ну, взяли мы и накинули на, шею ему удавку.:
— А расскажи еще, как мужика-то ты за голову сахару укокошил?
— Это еще чего поминать. Робячьим еще делом было, какое это преступленье?
— Все-таки расскажите.
— Приехал к тятьке знакомый мужик в гости, пьяный-распьяный. Покаместь он с тятькой сидел да водку пил, мы, ребятишки, нашли у него в санях кулек с разными сластями. Голова там целая сахару была, пряники… Только хотели было уволочь кулек, глядь — он выходит, хозяин-то то-ись. Еле ноги передвигает, тятька под руки его ведет. Сел кое-как в сани. «Прокати, говорим, дяинька!» Уселись мы с ним и поехали. Лошаденка сама дорогу знает, бежит куда надо. Вот я взял вожжи-то, да и накинул ему, сонному, на шею. Он и захрипел. Мы сейчас лошадь остановили, кулек сцапали — и наубёг. А лошадь домой. Так мертвого его привезла. Ну, тятька-то, надо быть, сдогадался, призвал нас и пригрозил кнутом: «Молчите, сучьи дети!» Так и не узнал никто. Задавился сам, пьяный, да и все тут.
— А сколько вам лет было тогда, Чирок?
— Я по одиннадцатому был году, а Егорша по восьмому.
— Ты, значит, удавочкой все больше орудовал? Молодец, Кузьма!
— Он и топориком, братцы, умел девствовать, — поправил Тарбаган. — Расскажи-ка, Кузьма, как другого-то мужика топором ты в боковину двинул.
— О, гаденыш проклятый! Творенье паршивое!
— Нет, уж рассказывай, брат, рассказывай, коли начал, — галдела вся камера, — а нет, так ведь живо подкуем. Эй, Железный Кот! Подковать его надо!
«Подковать» — это значило щекотать пятки, чего Чирок смертельно боялся. Он моментально вспрыгивал на ноги и начинал бегать по нарам, грозя всем наступающим своими дюжими кулаками.
— Падсту-пись-ка только! — кричал он нараспев. — Я покажу! Даром что старичонко…
Но враги приближались со всех сторон. Никифор, Семенов, Железный Кот заходили с боков; Парамон надвигался, прямо, грозный и решительный… Чирок, прижатый в угол, готовился к жаркому бою, но внезапно какой-нибудь Тарбаган кидался ему под ноги, все на него налетали, валили после долгого и упорного сопротивления на нары и «прибивали подковки». При этом Чирок орал так немилосердно, что должны были затыкатъ ему рот из опасения, что услышит надзиратель. Наконец Чирок просит-таки пощады и, кашляя и бранясь, усаживается на свое место рассказывать, как он мужика топориком двинул.
— Чего тут рассказывать-то? Из-за межи спор вышел. Он на меня со стягом кинулся… Мне што ж, зевать, что ль, было? Я и махнул в него топором и угодил прямо в боковину. Тут же из подлеца и дух вышел. Меня втапоры и суд оправдал, потому свидетели были.
— Записывайте, Миколаич: это уж которая душа-то?
— У него еще есть. Вчера ночью мне сказывал… Раз… — заводил было Парамон, но Чирок принимался так усердно тузить его и между ними начиналась опять такая возня, что к форточке подходил надзиратель и прикрикивал на буянов. Возня затихала, беседа прекращалась, и большинство мало-помалу засыпало. Только Чирок, Парамон и Железный Кот, сойдясь в кучку на противоположных нарах, где было место кузнеца, долго еще, иногда до поздней ночи, сидели, сложив по-турецки ноги и посасывая цигарки и трубки, и беседовали между собой таинственным полушепотом. Это Чирок рассказывал о своей молодости… До меня доносились отрывки этих рассказов, и часто я вздрагивал от невольно охватившего меня ужаса, а иногда, напротив, готов был смеяться самым искренним и добродушным смехом.
Личность Чирка вообще представляла какую-то причудливую смесь серьезного с шутливым, комизма с трагизмом, чисто детской наивности и простодушия с самой хитрой плутоватостью и лукавством. Природный ум и лукавство светились в этих серых, всегда с любопытством смотревших глазах, глядели из складок морщинистого лба и углов большого неуклюжего рта, оттененного жесткими, рыжеватыми усами; но в то же время от этого бледного худощавого лица с длинным, как у лошади, черепом, от всей мешковатой, переваливающейся с ноги на ногу и прочно скроенной фигуры веяло чем-то таким простым и хорошим, что редко кто не любил Чирка. Служа предметом вечных и всеобщих насмешек и отругиваясь порой как самый последний извозчик, Кузьма, даже в минуты яростного гнева бывал, в сущности, безобиден, и самые ужасные его ругательства вызывали один хохот. В бранных словах он был большой знаток и мастер; они почти не сходили у него с языка и, однако, не имели в его устах того страшного характера, как, например, у Семенова, или циничного, как у Тарбагана. За несколько лет общей жизни в Шелайской тюрьме я сильно привязался к Чирку, и среди многих треволнений и испытаний всякого рода, о которых будет речь впереди и которые не раз заставляли меня переменять мнение о других арестантах, Чирок всегда оставался в моих глазах все тем же незлобивым и добродушным Чирком, тем же верным и надежным приятелем, никогда не сующимся ни в какие арестантские дрязги. А между тем на воле этот же самый шут Чирок отправил на тот свет с десяток душ и теперь не чувствовал в том ни малейшего раскаяния…
Долгое время я не понимал, почему его дразнят, между прочим, Сахалином, говоря, что скоро и его туда повезут к сестре. Я думал, что это не больше как шутка; но, прислушиваясь раз к таинственному ночному шепоту, узнал из уст самого Чирка следующее объяснение этим насмешкам:
— Из-за Лукейки-то я и пропал больше. Еще экосенькой вот девчонкой она чистый разбойник была. Шары большие, так и горят, глядеть страшно… Лет семнадцати связалась с бродягой Сенькой Пелевиным и зачала с им дела крутить! Я в их круг не мешался, потому я больше на тихой манер норовил: в клеть али в анбар в чужой залезть, чужих баранов али гусей пошарить… Где сено, где дрова… Ну, и пшеницей и чебаками тоже не брезговал… — Среди слушателей тихий смех.
— А чтоб убивать, так уж разве неминучее дело. Так я и тогда удавочку больше в ход пущал али сулему.