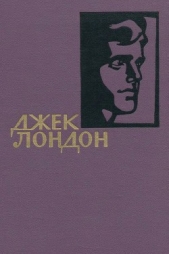Том 4. Повести и рассказы, статьи 1844-1854
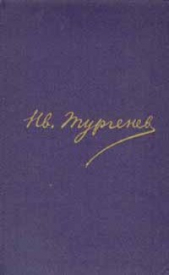
Том 4. Повести и рассказы, статьи 1844-1854 читать книгу онлайн
В четвертый том вошли повести и рассказы, статьи и рецензии и незавершенное произведение И.С. ТургеневаПовести и рассказы 1844-1854гг.: "Андрей Колосов", "Бретёр", "Три портрета", "Жид", "Петушков", "Дневник лишнего человека", "Три встречи", "Муму", "Постоялый двор", "Два приятеля", "Затишье".Статьи и рецензии 1850-1854: " Несколько слов об опере Мейербера «Пророк», "Поэтические эскизы. Альманах стихотворений, изданный Я.М. Позняковым и А.П. Пономаревым", "Племянница. Роман, соч. Евгении Тур. 4 части, Москва, 1851", "Несколько слов о новой комедии г. Островского «Бедная невеста»,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
О боже мой, боже мой! Я вот умираю… Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанет биться… И неужели же оно затихнет навсегда, не изведав ни разу счастия, не расширясь ни разу под сладостным бременем радости? Увы! это невозможно, невозможно, я знаю… Если б по крайней мере теперь, перед смертью — ведь смерть все-таки святое дело, ведь она возвышает всякое существо, — если б какой-нибудь милый, грустный, дружеский голос пропел надо мною прощальную песнь, песнь о собственном моем горе, я бы, может быть, помирился с ним. Но умереть глухо, глупо…
Я, кажется, начинаю бредить.
Прощай, жизнь, прощай, мой сад, и вы, мои липы! Когда придет лето, смотрите, не забудьте сверху донизу покрыться цветами… И пусть хорошо будет людям лежать в вашей пахучей тени, на свежей траве, под лепечущий говор ваших листьев, слегка возмущенных ветром. Прощайте, прощайте! Прощай всё и навсегда!
Прощай, Лиза! Я написал эти два слова — и чуть-чуть не засмеялся. Это восклицание мне кажется книжным. Я как будто сочиняю чувствительную повесть или оканчиваю отчаянное письмо…
Завтра первое апреля. Неужели я умру завтра? Это было бы как-то даже неприлично. А впрочем, оно ко мне идет…
Уж как же доктор лотошил сегодня!..
1 апреля.
Кончено… Жизнь кончена. Я точно умру сегодня. На дворе жарко… почти душно… или уже грудь моя отказывается дышать? Моя маленькая комедия разыграна. Занавес падает.
Уничтожаясь, я перестаю быть лишним…
Ах, как это солнце ярко! Эти могучие лучи дышат вечностью…
Прощай, Терентьевна!.. Сегодня поутру она, сидя у окна, всплакнула… может быть, обо мне… а может быть, и о том, что ей самой скоро придется умереть. Я взял с нее слово не «пришибить» Трезора.
Мне тяжело писать… бросаю перо… Пора! Смерть уже не приближается с возрастающим громом, как карета ночью по мостовой: она здесь, она порхает вокруг меня, как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка… *
Я умираю… Живите, живые!
Примечание издателя. Под этой последней строкой находится профиль головы с большим хохлом и усами, с глазом en face и лучеобразными ресницами; а под головой кто-то написал следующие слова:
Cѣю рукопись. Читалъ
И Содѣржаніе Онной Нѣ Одобрилъ
Пѣтр Зудотѣшинъ
M M M M
Милостивый Государь
Пѣтръ Зудотѣшинъ.
Милостивый Государь мой.
Но так как почерк этих строк нисколько не походил на почерк, которым написана остальная часть тетради, то издатель и почитает себя вправе заключить, что вышеупомянутые строки прибавлены были впоследствии другим лицом, тем более что до сведения его (издателя) дошло, что г-н Чулкатурин действительно умер в ночь с 1 на 2 апреля 18… года, в родовом своем поместье Овечьи Воды.
Три встречи
Passa que’colli e vieni allegramente * ;
Non ti curar di tanta compagnia —
Vieni, pensando a me segretamente —
Ch’io t’accompagni per tutta la via [13].
Никуда я, бывало, не ездил так часто на охоту в течение лета, как в село Глинное, лежащее в двадцати верстах от моей деревни. * Около этого села находятся самые, может быть, лучшие места для дичи в целом нашем уезде. Выходив все окрестные кусты и поля, я непременно к концу дня заворачивал в соседнее, почти единственное в околотке болото и уже оттуда возвращался к радушному моему хозяину, глинскому старосте, у которого я постоянно останавливался. От болота до Глинного не более двух верст; дорога идет всё лощиной, и только на половине пути приходится перебраться через небольшой холм. На вершине этого холма лежит усадьба, состоящая из одного необитаемого господского домика и сада. Мне почти всегда случалось проходить мимо нее в самый разгар вечерней зари, и, помнится, всякий раз этот дом, со своими наглухо заколоченными окнами, представлялся мне слепым стариком, вышедшим погреться на солнце. Сидит он, сердечный, близ дороги; солнечный блеск давно сменился для него вечной мглою; но он чувствует его по крайней мере на приподнятом и вытянутом лице, на согретых щеках. Казалось, давно никто не жил в самом доме; но в крошечном флигельке, на дворе, помещался дряхлый вольноотпущенный человек, высокий, сутуловатый и седой, с выразительными и неподвижными чертами лица. Он, бывало, всё посиживал на лавочке под единственным окошком флигеля, с горестной задумчивостью поглядывая вдаль, а увидав меня, приподнимался немного и кланялся с той медлительной важностью, которой отличаются старые дворовые, принадлежащие к поколению не отцов наших, а дедов. Я заговаривал с ним, но он не был словоохотлив: я только узнал от него, что усадьба, в которой он жил, принадлежала внучке его старого барина, вдове, у которой была младшая сестра; что обе они живут в городах да за морем, а домой и не показываются; что ему самому поскорей хочется дожить свой век, потому что «жуешь, жуешь хлеб, инда и тоска возьмет: так давно жуешь». Старика этого звали Лукьянычем.
Однажды я как-то долго замешкался в поле; дичи попалось порядочно, да и день вышел такой для охоты хороший — с самого утра тихий, серый, словно весь проникнутый вечером. Я забрел далеко, и уже не только совершенно стемнело, но луна взошла, а ночь, как говорится, давно сталана небе, когда я достиг знакомой усадьбы. Мне пришлось идти вдоль сада… Кругом была такая тишина…
Я перешел через широкую дорогу, осторожно пробрался сквозь запыленную крапиву и прислонился к низкому плетню. Неподвижно лежал передо мною небольшой сад, весь озаренный и как бы успокоенный серебристыми лучами луны, — весь благовонный и влажный; разбитый по-старинному, он состоял из одной продолговатой поляны. Прямые дорожки сходились на самой ее середине в круглую клумбу, густо заросшую астрами; высокие липы окружали ее ровной каймой. В одном только месте прерывалась эта кайма сажени на две, и сквозь отверстие виднелась часть низенького дома с двумя, к удивлению моему, освещенными окнами. Молодые яблони кое-где возвышались над поляной; сквозь их жидкие ветви кротко синело ночное небо, лился дремотный свет луны; перед каждой яблоней лежала на белеющей траве ее слабая пестрая тень. С одной стороны сада липы смутно зеленели, облитые неподвижным, бледно-ярким светом; с другой — они стояли все черные и непрозрачные; странный, сдержанный шорох возникал по временам в их сплошной листве; они как будто звали на пропадавшие под ними дорожки, как будто манили под свою глухую сень. Всё небо было испещрено звездами; таинственно струилось с вышины их голубое, мягкое мерцанье; они, казалось, с тихим вниманьем глядели на далекую землю. Малые, тонкие облака, изредка налетая на луну, превращали на мгновение ее спокойное сияние в неясный, но светлый туман… Всё дремало. Воздух, весь теплый, весь пахучий, даже не колыхался; он только изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная падением ветки… Какая-то жажда чувствовалась в нем, какое-то мление… Я нагнулся через плетень: передо мной красный полевой мак поднимал из заглохшей травы свой прямой стебелек; большая круглая капля ночной росы блестела темным блеском на дне раскрытого цветка. Всё дремало, всё нежилось вокруг; всё как будто глядело вверх, вытянувшись, не шевелясь и выжидая… Чего ждала эта теплая, эта не заснувшая ночь?