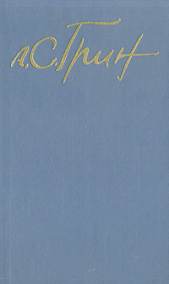Том 1. Проза 1906-1912

Том 1. Проза 1906-1912 читать книгу онлайн
В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».
Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.
К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут в нашу беседу вмешался молчавший до той поры незнакомец, единственный, кроме нас, в вагоне. Обратив на него свои взоры, мы увидели безбородого человека, с острым носом и бегающими глазами; одет по-мещански. Удивительные в нем были только глаза, которые, когда переставали бегать, оказывались необыкновенной величины и прозрачности, с таким выражением чистоты и удивленной наивности, что было даже странно, как могли они только что бегать по сторонам, а не все время смотреть на собеседника светло и неподвижно. Обладатель-то этих глаз и вмешался в наш разговор высоким, несколько охрипшим голосом. Сначала он молча улыбнулся на крестное знамение моего соседа, потом произнес застенчиво: «Знаете, выходят иногда престранные оказии с пропитанием». Не ожидая никак нового собеседника, мы промолчали, а тот продолжал с еще большею запинкою:
— Вы простите, господа хорошие, что я так вступаю; я в том расчислении говорю, что иногда большие неустройства выходят с таким вот неожиданным пропитанием, как их степенство изволили сказать. Случай такой был у нас в монастыре.
— А разве вы из монастыря?
— Три года, как вышел, а то пятнадцать лет бызвыходно в обители пребывал.
— Да сколько же вам лет?
— Тридцать три года, — был ответ и тот же удивленный взгляд в упор.
Я удивился; спутник же мой, толкнув меня локтем в бок, только прошептал: «За чемоданчиком-то, ваше благородие, присматривайте». Большой любитель старомодных вагонных встреч и лесковских «рассказов кстати», я уселся поудобнее и, в ожидании монашеского «a propos», вымолвил: «Какой же был случай в вашем монастыре? Поделитесь, если возможно».
— Да занятного мало, хотя, с другой стороны, и разительное совпадение. Рассказать, конечно, можно.
После таких, довольно обычных, предисловий наш попутчик передал нам следующее повествование, которое я, в свою очередь, постараюсь пересказать наиболее связным и кратким манером, сохраняя, насколько возможно, стиль первоисточника. Вот что мы услышали под ровный стук вагона, я — удобно расположившись на волчьей шубе, спутник же мой — делая вид спящего, но неукоснительно наблюдая за целостью нашего багажа.
— В старину наш монастырь славен был, богат, но с течением времени все падал и падал, одно время был даже обращен в женский, и к настоящему времени от всего прошлого богатства и славы остались только прочные, неистребимые постройки, древнее книгохранилище да старинные ризы, наполовину отосланные в музей. Келий было так достаточно, что не только большинство стояло заколоченными или было обращено в кладовые, в которых, кстати сказать, крысам мало было чем поживиться, но на братию даже приходилось чуть не по две келий на душу. Деревень кругом верст на двадцать пять никаких, а которые и за двадцать пять верст, так до того убоги, что прибыли от них обители никакой не бывало. Побогаче и постепеннее мужики — все староверы, а православные, которые не пьяницы, столь нищи, что самим впору Христовым именем питаться, а не то, что монастырю помогать. В ближайшем городе — то же самое, и хотя была у нас гостиница, но всегда почти пустовала или же занята была дальними приезжими. Однажды по весне приезжал к нам даже художник из Петербурга, долго жил, все писал снимки с ворот, да с башен, да с икон, — но серьезной публики посещало нас мало. Братии было очень немного, люди были все немудрящие или, как говорится, «препростые». Бедность их была подлинная, так что нередко приходилось задумываться просто о дневном пропитании. Как-то к той поре, когда случилось то происшествие, что я намерен вам рассказать, эта нужда особенно усилилась, и именно к сочельнику. Все готовятся встретить Рождество Христово радостно и обильно, а у нас и крысы даже все разбежались. Говорят, что, наевшись, трудно петь, да уж и на голодный желудок — не приведи Господи; колокола — и те будто в великий пост звонят. Мне, как человеку о ту пору молодому, можно сказать отроку еще (шел мне тогда девятнадцатый год), все нипочем, к монашеской жизни был еще жаден, развожу себе каноны и в ус не дую.
И вот в такое-то бедственное время пожаловали к нам нечаянные гостьи: старая старушка и молодая барыня, чиновница ли, купчиха или помещица, — кто ее знает? Мы все переполошились: чем же мы гостей дорогих кормить-то будем? Гостинник им даже докладывает, что так-то и так-то, как бы на пишу обиды не вышло, но барыня только бровями повела и говорит с беспечностью: «Ничего, отец, мы не прихотливы, будем есть то же, что и вы, а если не дадите, так у нас и с собой закуска есть». Таково-то шутит и ручкой на два большие тюка показывает. Но тюки-то попросила на ледник отправить, закуски же из небольшой корзинки стала доставать: икру, семгу, балык, ну, что мирянам в посту полагается. И мы несколько успокоились, думаем: наверное, в тюках всякая живность замороженная, двум женщинам не съесть, а коли прогостят до праздника, так и на нашу долю кое-что перепадет. Барыня наша все шутит и весело разговаривает, но вид невеселый показывает: то брови сдвинет, то вдруг говорит, говорит, оборвет и задумается, станет одну и ту же тарелку со стола на комод да на стол с комода переставлять, то в застывшее окно на алую зарю смотреть примется. Без шубы оказалась худенькой, вроде девочки, сама румяная, волосы черные, как сажа, заплетены хитро, а глаза величиной со старинные часы карманные, как вскинет ими, даже жутко становится. Старуха же, надо полагать, была нянькою или какою другою услужающей, а может, и родственницей по-купечески состояла; звали ее Леонтьевной, барыню же молодую звали Зинаидой Павловной.
манером к нам депеши доходят, а мы отродясь и депеш-то никаких не получали. Молилась Зинаида Павловна усердно, но в меру, и видно было, что что-то ее беспокоит. Потом службы три барыня наша пропустила, нянюшка говорила, занемогла ее хозяйка; хотели за лекарем снарядить в город, но больная отказалась и стала домашние травы пить. Как-то под вечер возвращался я из лесу с дровами, как слышу из гостиничного окна стучит мне наша гостья. Привязал я лошадь к столбу, взошел на крыльцо, у дверей замолитвовал, изнутри сказали «аминь», но никакого движения, ни шагов не слышно. Вхожу — никого; из-за перегородки слабый голосочек наша госпожа подает: «Войдите ко мне, я не совсем здорова, но одета. Леонтьевна побрела куда-то, оставила меня, скучно очень, да и дело к вам есть».
— Какое же говорю, у вас ко мне дело, Зинаида Павловна, — а за перегородку вступить не смею. Сам думаю: как же, вот, в окошко стучала, а с кровати сойти не может?
— Стучать меня изволили? — спрашиваю.
— Звать я вас не звала, но видеть вас очень рада, к тому же у меня и дело к вам есть, Алеша.
Правда, что меня Алексеем звать, но как же она это знает и зачем все одно и то же про дело твердит? Какое у нее ко мне дело может быть? Подумал я, так и промолвил:
— А мне показалось, что вы в окно меня стучали.
— Я не стучала, вам почудилось, — ответила та все еще из-за перегородки. — Войдите сюда, я одета, мне нужно поговорить с вами.
Перекрестился я потихоньку и вступил. Зинаида Павловна, действительно, одетою лежала, разметавшись, сама бледная, а щеки огнем горят, и глаза еще больше сделались и чернее. На столике огарок горит, и пачка писем лежит. Стою я и молчу, и она молчит, в потолок смотрит. Я кашлянул, а она, не сводя глаз с потолка, тихонько шепчет: «Боже мой, Боже мой, что ж это будет?» — и, не моргая, горько заплакала. Я ступил шаг вперед и спрашиваю:
— Что с вами, госпожа Зинаида Павловна? Я за Леонтьевной сбегаю, у вас горячка, наверное.
Но она головой покачала, что, мол, не надо, и тихо же продолжает:
— Вы, Алеша, человек чистый и монах; скажите мне по совести, может ли человек из любви любимого человека убить и не извергом самому остаться? — И вскинула на меня глазами. Подумал я и отвечаю:
— Хоть я и монах, но до чистоты мне далеко, а что насчет того, что вы спрашиваете, так я этого сказать вам на себя взять не могу. Это у старцев надо спрашивать, а я еще молод и эти дела мало знаю.