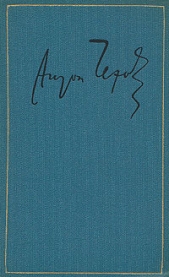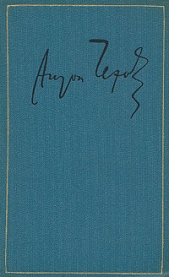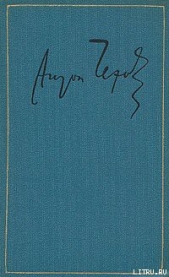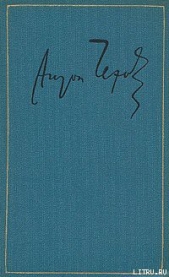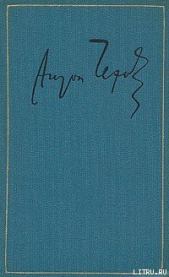Том 9. Рассказы, повести 1894-1897
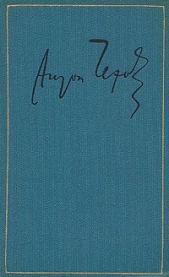
Том 9. Рассказы, повести 1894-1897 читать книгу онлайн
Полное собрание сочинений и писем Антона Павловича Чехова в тридцати томах — первое научное издание литературного наследия великого русского писателя. Оно ставит перед собой задачу дать с исчерпывающей полнотой всё, созданное Чеховым.
Рассказы и повести, вошедшие в девятый том, написаны в 1894 («Три года») и 1895–1897 годах.
В данной электронной редакции опущен раздел «Варианты».
http://ruslit.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Декорации писал я у Ажогиных в сарае или на дворе. Мне помогал маляр, или, как он сам называл себя, подрядчик малярных работ, Андрей Иванов, человек лет пятидесяти, высокий, очень худой и бледный, с впалою грудью, с впалыми висками и с синевой под глазами, немножко даже страшный на вид. Он был болен какою-то изнурительною болезнью, и каждую осень и весну говорили про него, что он отходит, но он, полежавши, вставал и потом говорил с удивлением: «А я опять не помер!»
В городе его звали Редькой и говорили, что это его настоящая фамилия. Он любил театр так же, как я, и едва до него доходили слухи, что у нас затевается спектакль, как он бросал все свои работы и шел к Ажогиным писать декорации.
На другой день после объяснения с сестрой я с утра до вечера работал у Ажогиных. Репетиция была назначена в семь часов вечера, и за час до начала в зале уже были в сборе все любители, и по сцене ходили старшая, средняя и младшая и читали по тетрадкам. Редька в длинном рыжем пальто и в шарфе, намотанном на шею, уже стоял, прислонившись виском к стене, и смотрел на сцену с набожным выражением. Ажогина-мать подходила то к одному, то к другому гостю и говорила каждому что-нибудь приятное. У нее была манера пристально смотреть в лицо и говорить тихо, как по секрету.
— Должно быть, трудно писать декорации, — сказала она тихо, подходя ко мне. — А мы только что с мадам Муфке говорили о предрассудках, и я видела, как вы вошли. Бог мой, я всю, всю мою жизнь боролась с предрассудками! Чтобы убедить прислугу, какие пустяки все эти их страхи, я у себя всегда зажигаю три свечи и все свои важные дела начинаю тринадцатого числа.
Пришла дочь инженера Должикова, красивая, полная блондинка, одетая, как говорили у нас, во всё парижское. Она не играла, но на репетициях для нее ставили стул на сцене, и спектаклей не начинали раньше, пока она не появлялась в первом ряду, сияя и изумляя всех своим нарядом. Ей, как столичной штучке, разрешалось во время репетиций делать замечания, и делала она их с милою, снисходительною улыбкой, и видно было, что на наши представления она смотрела, как на детскую забаву. Про нее говорили, что она училась петь в петербургской консерватории и будто даже целую зиму пела в частной опере. Она мне очень нравилась, и обыкновенно на репетициях и во время спектакля я не спускал с нее глаз.
Я уже взял тетрадку, чтобы начать суфлировать, как неожиданно появилась сестра. Не снимая манто и шляпы, она подошла ко мне и сказала:
— Прошу тебя, пойдем.
Я пошел. За сценой, в дверях стояла Анюта Благово, тоже в шляпке, с темною вуалькой. Это была дочь товарища председателя суда, служившего в нашем городе давно, чуть ли не с самого основания окружного суда. Так как она была высока ростом и хорошо сложена, то участие ее в живых картинах считалось обязательным, и когда она изображала какую-нибудь фею или Славу, то лицо ее горело от стыда; но в спектаклях она не участвовала, а заходила на репетиции только на минутку, по какому-нибудь делу, и не шла в зал. И теперь видно было, что она зашла только на минутку.
— Мой отец говорил о вас, — сказала она сухо, не глядя на меня и краснея. — Должиков обещал вам место на железной дороге. Отправляйтесь к нему завтра, он будет дома.
Я поклонился и поблагодарил за хлопоты.
— А это вы можете оставить, — сказала она, указав на тетрадку.
Она и сестра подошли к Ажогиной и минуты две шептались с нею, поглядывая на меня. Они советовались о чем-то.
— В самом деле, — сказала Ажогина тихо, подходя ко мне и пристально глядя в лицо, — в самом деле, если это отвлекает вас от серьезных занятий, — она потянула из моих рук тетрадь, — то вы можете передать кому-нибудь другому. Не беспокойтесь, мой друг, идите себе с богом.
Я простился с нею и вышел сконфуженный. Спускаясь вниз по лестнице, я видел, как уходили сестра и Анюта Благово; они оживленно говорили о чем-то, должно быть о моем поступлении на железную дорогу, и спешили. Сестра раньше никогда не бывала на репетициях, и теперь, вероятно, ее мучила совесть, и она боялась, как бы отец не узнал, что она без его позволения была у Ажогиных.
Я отправился к Должикову на другой день, в первом часу. Лакей проводил меня в очень красивую комнату, которая была у инженера гостиной и в то же время рабочим кабинетом. Тут было всё мягко, изящно и для такого непривычного человека, как я, даже странно. Дорогие ковры, громадные кресла, бронза, картины, золотые и плюшевые рамы; на фотографиях, разбросанных по стенам, очень красивые женщины, умные, прекрасные лица, свободные позы; из гостиной дверь ведет прямо в сад, на балкон, видна сирень, виден стол, накрытый для завтрака, много бутылок, букет из роз, пахнет весной и дорогою сигарой, пахнет счастьем, — и всё, кажется, так и хочет сказать, что вот-де пожил человек, потрудился и достиг, наконец, счастья, возможного на земле. За письменным столом сидела дочь инженера и читала газету.
— Вы к отцу? — спросила она. — Он принимает душ, сейчас придет. Посидите пока, прошу вас.
Я сел.
— Вы ведь, кажется, против нас живете? — спросила она опять, после некоторого молчания.
— Да.
— Я от скуки каждый день наблюдаю из окна, уж вы извините, — продолжала она, глядя в газету, — и часто вижу вас и вашу сестру. У нее всегда такое доброе, сосредоточенное выражение.
Вошел Должиков. Он вытирал полотенцем шею.
— Папа, monsieur Полознев, — сказала дочь.
— Да, да, мне говорил Благово, — живо обратился он ко мне, не подавая руки. — Но, послушайте, что же я могу вам дать? Какие у меня места? Странные вы люди, господа! — продолжал он громко и таким тоном, как будто делал мне выговор. — Ходит вас ко мне по двадцать человек в день, вообразили, что у меня департамент! У меня линия, господа, у меня каторжные работы, мне нужны механики, слесаря, землекопы, столяры, колодезники, а ведь все вы можете только сидеть и писать, больше ничего! Все вы писатели!
И от него пахнуло на меня тем же счастьем, что и от его ковров и кресел. Полный, здоровый, с красными щеками, с широкою грудью, вымытый, в ситцевой рубахе и шароварах, точно фарфоровый, игрушечный ямщик. У него была круглая, курчавая бородка — и ни одного седого волоска, нос с горбинкой, а глаза темные, ясные, невинные.
— Что вы умеете делать? — продолжал он. — Ничего вы не умеете! Я инженер-с, я обеспеченный человек-с, но, прежде чем мне дали дорогу, я долго тер лямку, я ходил машинистом, два года работал в Бельгии как простой смазчик. Посудите сами, любезнейший, какую работу я могу вам предложить?
— Конечно, это так… — пробормотал я в сильном смущении, не вынося его ясных, невинных глаз.
— По крайней мере, умеете ли вы управляться с аппаратом? — спросил он, подумав.
— Да, я служил на телеграфе.
— Гм… Ну, там посмотрим. Отправляйтесь пока в Дубечню. Там у меня уже сидит один, но дрянь ужасная.
— А в чем будут заключаться мои обязанности? — спросил я.
— Там увидим. Отправляйтесь пока, я распоряжусь. Только, пожалуйста, у меня не пьянствовать и не беспокоить меня никакими просьбами. Выгоню.
Он отошел от меня и даже головой не кивнул. Я поклонился ему и его дочери, читавшей газету, и вышел. На душе у меня было тяжело до такой степени, что когда сестра стала спрашивать, как принял меня инженер, то я не мог выговорить ни одного слова.
Чтобы идти в Дубечню, я встал рано утром, с восходом солнца. На нашей Большой Дворянской не было ни души, все еще спали, и шаги мои раздавались одиноко и глухо. Тополи, покрытые росой, наполняли воздух нежным ароматом. Мне было грустно и не хотелось уходить из города. Я любил свой родной город. Он казался мне таким красивым и теплым! Я любил эту зелень, тихие солнечные утра, звон наших колоколов; но люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил и не понимал их.
Я не понимал, для чего и чем живут все эти шестьдесят пять тысяч людей. Я знал, что Кимры добывают себе пропитание сапогами, что Тула делает самовары и ружья, что Одесса портовый город, но что такое наш город и что он делает — я не знал. Большая Дворянская и еще две улицы почище жили на готовые капиталы и на жалованье, получаемое чиновниками из казны; но чем жили остальные восемь улиц, которые тянулись параллельно версты на три и исчезали за холмом, — это для меня было всегда непостижимою загадкой. И как жили эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра; городская и клубная библиотеки посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги по месяцам лежали неразрезанными; богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими, а слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями. В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные — осетриной, жаренной на подсолнечном масле. Ели невкусно, пили нездоровую воду. В думе, у губернатора, у архиерея, всюду в домах много лет говорили о том, что у нас в городе нет хорошей и дешевой воды и что необходимо занять у казны двести тысяч на водопровод; очень богатые люди, которых у нас в городе можно было насчитать десятка три и которые, случалось, проигрывали в карты целые имения, тоже пили дурную воду и всю жизнь говорили с азартом о займе — и я не понимал этого; мне казалось, было бы проще взять и выложить эти двести тысяч из своего кармана.