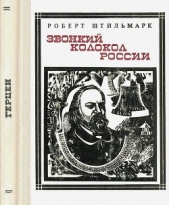Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева)

Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева) читать книгу онлайн
Писатель, мыслитель, революционер, ученый, публицист, основатель русского бесцензурного книгопечатания, родоначальник политической эмиграции в России Александр Иванович Герцен (Искандер) почти шестнадцать лет работал над своим главным произведением — автобиографическим романом «Былое и думы». Сам автор называл эту книгу исповедью, «по поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум». Но в действительности, Герцен, проявив художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины ХIХ века.
Роман «Былое и думы» — зеркало жизни человека и общества, — признан шедевром мировой мемуарной литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Недели через полторы после моего взятия, часу в десятом вечера, пришел маленького роста черненький и рябенький квартальный с приказом одеться и отправляться в следственную комиссию.
Пока я одевался, случилось следующее смешно-досадное происшествие. Обед мне присылали из дома, слуга отдавал внизу дежурному унтер-офицеру, тот (192) присылал с солдатом ко мне. Виноградное вино позволялось пропускать от полубутылки до целой в день. Н. Сазонов, пользуясь этим дозволением, прислал мне бутылку превосходного «Иоганнисберга». Солдат и я, мы ухитрились двумя гвоздями откупорить бутылку; букет поразил издали. Этим вином я хотел наслаждаться дня три-четыре.
Надобно быть в тюрьме, чтоб знать, сколько ребячества остается в человеке и как могут тешить мелочи от бутылки вина до шалости над сторожем.
Рябенький квартальный отыскал мою бутылку и, обращаясь ко мне, просил позволения немного выпить. Досадно мне было, однако я сказал, что очень рад. Рюмки у меня не было. Изверг этот взял стакан, налил его до невозможной полноты и вылил его себе внутрь, не переводя дыхания; этот образ вливания спиртов и вин только существует у русских и у поляков; — я во всей Европе не видал людей, которые бы пили залпомстакан или умели хватитьрюмку. Чтоб потерю этого стакана сделать еще чувствительнее, рябенький квартальный, обтирая синим табачным платком губы, благодарил меня, приговаривая: «Мадера хоть куда». Я с ненавистью посмотрел на него и злобно радовался, что люди не привили квартальному коровьей оспы, а природа не обошла его человеческой.
Этот знаток вин привез меня в обер-полицмейстерский дом на Тверском бульваре, ввел в боковую залу и оставил одного. Полчаса спустя из внутренних комнат вышел толстый человек с ленивым и добродушным видом; он бросил портфель с бумагами на стул и послал куда-то жандарма, стоявшего в дверях.
— Вы, верно, — сказал он мне, — по делу Огарева и других молодых людей, недавно взятых? Я подтвердил.
— Слышал я, — продолжал он, — мельком. Странное дело, ничего не понимаю.
— Я сижу две недели в тюрьме по этому делу, да не только ничего не понимаю, но просто не знаю ничего.
— Это-то и прекрасно, — сказал он, пристально посмотревши на меня, — и не знайте ничего. Вы меня простите, а я вам дам совет: вы молоды, у вас еще кровь горяча, хочется поговорить, это — беда; не забудьте же, что вы ничего не знаете, это единственный путь спасения. (193)
Я смотрел на него с удивлением: лицо его не выражало ничего дурного; он догадался и, улыбнувшись, сказал:
— Я сам был студент Московского университета лет двенадцать тому назад.
Взошел какой-то чиновник; толстяк обратился к нему как начальник и, кончив свои приказания, вышел вод, ласково кивнув головой и приложив палец к губам. Я никогда после не встречал этого господина и не знаю, кто он; но искренность его совета я испытал.
Потом взошел полицмейстер, другой, не Федор Иванович, и позвал меня в комиссию. В большой, довольно красивой зале сидели за столом человек пять, все в военных мундирах, за исключением одного чахлого старика. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, расстегнувши мундиры и развалясь на креслах. Обер-полицмейстер председательствовал.
Когда я взошел, он обратился к какой-то фигуре, смиренно сидевшей в углу, и сказал:
— Батюшка, не угодно ли?
Тут только я разглядел, что в углу сидел старый священник с седой бородой и красно-синим лицом. Священник дремал, хотел домой, думал о чем-то другом и зевал, прикрывая рукою рот. Протяжным голосом и несколько нараспев начал он меня увещевать;толковал о грехе утаивать истину пред лицами, назначенными царем, и о бесполезности такой неоткровенности, взяв во внимание всеслышащее ухо божие; он не забыл даже сослаться на вечные тексты, что «нет власти, аще не от бога» и «кесарю — кесарево». В заключение он сказал, чтоб я приложился к святому евангелию и честномукресту в удостоверение обета, — которого я, впрочем, не давал, да он и не требовал, — искренно и откровенно раскрыть всю истину.
Окончивши, он поспешно начал завертывать евангелие и крест. Цынский, едва приподнявшись, сказал ему, что он может идти. После этого он обратился ко мне и перевел духовную речь на гражданский язык.
— Я прибавлю к словам священника одно — запираться вам нельзя, если б вы и хотели. — Он указал на кипы бумаг, писем, портретов, с намерением разбросанных по столу… — Одно откровенное сознание может (194) смягчить вашу участь; быть на воле или в Бобруйску на Кавказе — это зависит от вас.
Вопросы предлагались письменно; наивность некоторых была поразительна. «Не анаете ли вы о существовании какого-либо тайного общества? Не принадлежите ли вы к какому-нибудь обществу — литературному или иному? —кто его члены? где они собираются?»
На все это было чрезвычайно легко отвечать одним нет.
— Вы, я вижу, ничего не знаете, — сказал, перечитывая ответы, Цынский. — Я вас предупредил — вы усложните ваше положение.
Тем и кончился первый допрос.
…Восемь лет спустя, в другой половине дома, где была следственная комиссия, жила женщина, некогда прекрасная собой, с дочерью красавицей, сестра нового обер-полицмейстера.
Я бывал у них и всякий раз проходил той залой, где Цынский с компанией судил и рядил нас; в ней висел, тогда и потом, портрет Павла — напоминовением ли того, до чего может унизить человека необузданность и злоупотребление власти, или для того, чтоб поощрять полицейских на всякую свирепость, — не знаю, но он был тут, с тростью в руках, курносый и нахмуренный, — я останавливался всякий раз пред этим портретом, тогда арестантом, теперь гостем. Небольшая гостиная возле, где все дышало женщиной и красотой, была как-то неуместна в доме строгости и следствий; мне было не по себе там и как-то жаль, что прекрасно развернувшийся цветок попал на кирпичную, печальную стену съезжей. Наши речи и речи небольшого круга друзей, собиравшихся у них, так иронически звучали, так удивляли ухо в этих стенах, привыкнувших слушать допросы, доносы и рапорты о повальных обысках, — в этих стенах, отделявших нас от шепота квартальных, от вздохов арестантов, от бренчанья жандармских шпор и сабли уральского казака…
Через неделю или две снова пришел рябенький квартальный и снова привез меня к Цынскому. В сенях сидели и лежали несколько человек скованных, окруженные солдатами с ружьями; в передней было тоже несколько человек разных сословий, без цепей, но строго охраняемых* Квартальный сказал мне, что это всё (195) зажигатели. Цынский был на пожаре, следовало ждать его возвращения; мы приехали часу в десятом вечера; в час ночи меня еще никто не спрашивал, и я все еще преспокойно сидел в передней с зажигателями. Из них требовали то одного, то другого — полицейские бегали взад и вперед, цепи гремели, солдаты от скуки брякали ружьями и выкидывали артикул. Около часу приехал Цынский, в саже и копоти, и пробежал в кабинет, не останавливаясь. Прошло с полчаса, позвали моего квартального; он воротился бледный, растерянный и с судорожным подергиванием в лице. Вслед за ним Цынский высунул голову в дверь и сказал:
— А вас, monsieur Г., вся комиссия ждала целый вечер; этот болванпривез вас сюда в то время, как вас требовали к князю Голицыну. Мне очень жаль, что вы здесь прождали так долго, но это не моя вина. Что прикажете делать с такими исполнителями? я думаю, пятьдесят лет служит и все чурбан. — Ну, пошел теперь домой! — прибавил он, изменив голос на гораздо грубейший и обращаясь к квартальному.
Квартальный повторял целую дорогу: «Господи! какая беда! человек не думает, не гадает, что над ним "сделается, — ну уж он меня доедет теперь. Он бы еще ничего, если б вас там не ждали, а то ведь ему срам — господи, какое несчастие!»
Я простил ему рейнвейн, особенно когда он мне сообщил, что он менее был испуган, когда раз тонул возле Лиссабона, чем теперь. Последнее обстоятельство было так нежданно для меня, что мною овладел безумный смех.