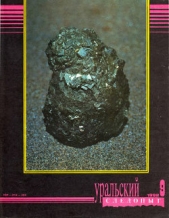Карьера Струкова. Две пары. Жадный мужик. Волхонская барышня

Карьера Струкова. Две пары. Жадный мужик. Волхонская барышня читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Федор опять с своею сдержанною вежливостью опустил щепоть в портсигар Сергея Петровича и, осторожно взяв папироску, сказал:
— Н-да, бывает и на господском положении…
Но, увлеченный течением своих мыслей, Сергей Петрович и не слыхал слов Федора.
— Вот, например, есть такая игра, шахматы… это очень мудреная игра, но она поняла мгновенно. Или теперь разговаривать с ней: ты не поверишь, какая она умница и как все знает, — за всем следит, читает… Я раз говорю, что есть такой ученый, — это очень мудреный ученый, — я говорю, что вот это прелесть, и, представь, смотрю: она мгновенно выписывает из Петербурга и теперь читает. — И вдруг, сообразив, что Федор не может его понять, Сергей Петрович возвысил голос и еще больше заволновался. — И как на фортепиано играет! — воскликнул он. — Есть очень трудные вещи, но у ней все это прелесть, прелесть как выходит…
— И детки есть? — спросил Федор.
— Есть мальчик, — сразу спадая с голоса, ответил Сергей Петрович и ударил вожжами лошадь.
— А что я думаю, Сергей Петрович, — сказал Федор после краткого молчания, — вот жена ежели хорошая — первое дело!
— Да, Федор, это отличнейшее, превосходнейшее дело! — горячо согласился Сергей Петрович.
— Дети пойдут… В хозяйстве, к примеру, любовь да совет — одно слово!
— Н-да, дети…
— Я как теперь понимаю, — совсем весело сказал Федор, — я так понимаю женатого человека, чтоб около него гудело от этих самых ребят. Я, ежели кажный год баба будет рожать, я ей в ножки поклонюсь, лишь бы господь достатку дал.
— Н-да… — задумчиво сказал Сергей Петрович и прибавил: — Ну, это, Федор, пожалуй, и скверно, если часто: женщина ужасно стареет от этого. Вот ты видел Марью Павловну, ведь правда, какая она красивая, и она хотя очень молода, но все-таки ей тридцать лет; но она гораздо моложе своих лет! И вот у ней один сын.
— Помирали? — с участием спросил Федор.
— Не то что помирали, но нынче вообще смотрят на это иначе… — И, не желая пояснять Федору, в чем заключаются современные взгляды на рождение детей, Сергей Петрович поспешил добавить: — Ты, конечно, прав, Федор, с своей точки зрения, — ты рассуждаешь с крестьянской, с хозяйственной стороны, и ты совершенно прав.
— Нам по крестьянству что ребят больше, то лучше, — согласился Федор и хотел добавить: «Это какая же и баба, ежели детей не родить», — но почему-то подумал, что Сергею Петровичу будут неприятны такие слова, и промолчал.
— Ну, а ты, Федор, облюбовал невесту, наметил? — спросил Сергей Петрович, оглядываясь на Федора и ласково ему улыбаясь. — Ведь признайся, наметил? В Лутошках хорошие есть девки.
— Девки в Лутошках ничего, — сказал Федор, в свою очередь улыбаясь, — есть которые дюже хороши.
— Ну, какая? Ну, признайся, Федор? Я ведь знаю, что ты влюблен, у тебя вон и лицо какое-то… Ну, пожалуйста.
Но Федор засмеялся и ничего не сказал. Сергей Петрович несколько опечалился сдержанностью Федора, — в себе самом он, к своей досаде, примечал все больше и больше желания высказываться. Но он поборол это и даже попытался изменить свое настроение и оборвать странную связь, которая, как он чувствовал, начинала образовываться между ним и Федором.
— Ты, пожалуйста, Федор, смотри, чтобы карниз не вышел косой. Вот вы у амбара сделали карниз, он косит к левому углу, — сказал он сухо.
— Не сумлевайтесь, Сергей Петрович, — в тон ему, но уже не сухо, а с преувеличенною почтительностью ответил Федор, — и ежели на амбаре не нравится, мы и на амбаре переделаем. Только, воля ваша, он прямой.
— Рассказывай — прямой! У меня ведь глаза-то, кажется, есть, — уже с раздражением возразил Сергей Петрович.
— Это как вам будет угодно; мы переделаем.
Они рысью подъехали к хутору. Федор соскочил с дрожек и, поблагодарив Сергея Петровича, побежал к людской избе.
— Где шатаешься-то, полуношник? — притворно-сердитым голосом сказала ему старая стряпуха. — Люди работают давно, а он шатается; вот дождешься: лутошкинские ребята бока отломают.
— Видали мы эдаких-то! — шутливо ответил Федор и, вдруг обняв стряпуху, круто повернулся с нею по избе. — Эх, тетушка Матрена, твои серые глаза режут сердце без ножа.
— Черт, — закричала Матрена, крепко ударив его уполовником, — право, черт! Через тебя вот щи убегли!
Федор подошел к рукомойнику, обмыл руки, плеснул горстью воды на лицо, степенно утерся ручником и, причесавшись медным гребнем, висевшим на пояске, несколько раз медлительно перекрестился на икону.
— Ты с барином, что ль, приехал? — спросила Матрена, не отходя от пылающей печки.
— Подвез. У Летятихи был. Тоже, должно быть, зазнобила молодца. По дороге-то врал, врал… Я бы, глядишь, давно дома был без его вранья.
— Чего муж-то глядит? Обломал бы бока, небось бы блажь-то выскочила. Ишь ведь, ишь полуношничают!
— Говорит, детей не родит, — со смехом сказал Федор. — Может, сколько годов замужем, а всего и есть что один парнишка. С того, говорит, и хороша.
— На это их взять. Им только и делов, чтоб вертелось вокруг их…
Федор захватил инструмент и отправился к артели. Там, у кучи свежих сосновых бревен, давно уже стучали топоры, сверкая в лучах солнца.
II
Сергей Петрович отдал лошадь конюху и вошел в дом; ему теперь решительно было неприятно, что он так много говорил с Федором о Марье Павловне Летятиной, и еще более было неприятно, что разговор их закончился в фальшивом и принужденном тоне. Сердитый и сам на себя, и на Федора, он лег спать в комнате с завешанными гардинами и долго не мог заснуть, и тогда только заснул, когда ему удалось подавить в себе мысли о Федоре и разговоре с ним и вспомнить вместо этого о вчерашнем вечере. Вчера Марья Павловна была как-то особенно грустна и меланхолична; он спорил с мужем о деревенской и городской жизни, она сидела у фортепиано и все брала медленные аккорды; и по временам, в особенно горячих местах спора, он чувствовал на себе ее взгляд, глубокий и полный сочувствия, и вместе с тем полный жалости к тому, что у нее такой муж, которому она не может сочувствовать. После ужина все это изменилось: она была весела даже до шаловливости, спела вакхическую арию, подражая манере Бичуриной. Но это еще не важно, — важное случилось тогда, когда она, несколько уставши от своего веселья, стала играть Мендельсона. Он стоял за ее стулом и переворачивал ноты; было поздно, был тот час, когда Летятин имел привычку, не прощаясь, уходить к себе, и вот, переворачивая ноты, Сергей Петрович вдруг почувствовал неотвратимое желание наклониться к ее затылку: мелкие завитки волос так прелестно крутились, алебастровая белизна шеи так восхитительно выступала из белизны узкого стоячего воротничка, что он не мог, совершенно не мог не наклониться. Он искоса посмотрел вокруг, — ему еще и теперь немного совестно этого воровского взгляда, — в комнате никого не было. Тогда он, чувствуя, как бьется кровь у него в висках, как мучительно замирает сердце, наклонился и прикоснулся губами к ее волосам. Это не был поцелуй, это было нечто мимолетное, отравленное страхом ожидания того, что скажет и что сделает она. Она едва заметно вздрогнула и продолжала играть; и когда прошло добрых пять минут, — Сергею Петровичу показалось, что целая вечность прошла, — она закинула голову и в упор посмотрела на Сергея Петровича долгим, влажным и притягивающим к себе взглядом. И Сергей Петрович прочитал в этих широко раскрытых блестящих глазах то, что сделало его мгновенно счастливым и мальчишески веселым. Он прочитал, что между ним и ею вдруг выросло что-то такое, что связало их души и заставило их сердца биться в один лад, их мысли — стремиться по одному течению. Вот что хотелось ему с чувством невыразимо-радостного торжества объявить всему миру и вот про что, хотя и совершенно в других словах, он рассказал Федору. И, умиротворенный сладостью своих воспоминаний, он сладко и крепко заснул под непрерывный стук топоров плотничьей артели.
Супруги Летятины жили в десяти верстах от хутора Сергея Петровича. Сам Летятин был здоровый, красивый человек, с пухлыми румяными щеками, с умеренным брюшком, с черною шелковистою бородкой и с особенною внушительностью и солидностью движений. В Петербурге он занимал какое-то выгодное место в одном значительном банке и теперь пользовался пятимесячным отпуском с сохранением содержания. Он пользовался деревенскою жизнью, как и всем, чем представлялось ему пользоваться в жизни, очень благоразумно и аккуратно. Вставал в семь часов, гулял, купался, катался верхом, следил за политикой по большой ежедневной газете, раз в неделю писал письма, тщательно разрезал получаемые журналы, и если статьи были «делового характера», как он выражался, то прочитывал их от первой строки до последней. По утрам, несмотря на деревенскую жизнь, он не упускал заниматься туалетом: он строго требовал, чтоб ему подавалась ледяная вода, возбуждал деятельность своей кожи палками из резины и мохнатыми жесткими полотенцами, обтирался с головы до ног одеколоном и выходил на прогулку в таком виде, что от него за пять шагов несло свежестью, здоровьем и чрезвычайно приятным запахом. Когда речь касалась его задушевнейших взглядов на жизнь, он имел привычку не без гордости утверждать, что он вынес из нигилизма шестидесятых годов все, что было хорошего и здорового в нигилизме; он любил иногда щегольнуть цитатой из Писарева и сослаться на ту или иную сцену из романа Что делать? — впрочем, исключительно на те только сцены, где описывается внешний порядок жизни, комфорт, разумное отношение к страстям и к здоровью и «рациональные» взгляды на распределение труда между супругами. Вообще он любил все удобное, здоровое и комфортабельное, и если не особенно возмущался противоположным этому, то единственно руководясь «рациональною гигиеной» собственной своей души, единственно только потому, что берег свое спокойствие и равновесие; это на его языке носило наименование «трезвой философии».