Колокола
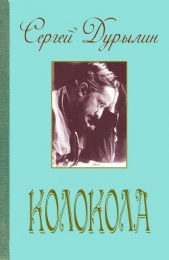
Колокола читать книгу онлайн
Написанная в годы гонений на Русскую Православную Церковь, обращенная к читателю верующему, художественная проза С.Н.Дурылина не могла быть издана ни в советское, ни в постперестроечное время. Читатель впервые обретает возможность познакомиться с писателем, чье имя и творчество полноправно стоят рядом с И.Шмелевым, М.Пришвиным и другими представителями русской литературы первой половины ХХ в., чьи произведения по идеологическим причинам увидели свет лишь спустя многие десятилетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Коняев сложил листы, отошел к печке и, скрестив руки, смотрел на Щеку:
— Я написал глупость, — сказал он, тихо и серьезно. — Смальчишничал. Вы сами умный человек. Знаете, что умны. Ну, и будет. Не стоит дальше об этом.
Щека засмеялся.
— Прием! Один прием! Продолжение сатиры. Но, повторяю, она попала в веко, — и этого довольно: в глаз уж слишком бы, и опасно в отношении истечения глазного яблока и последующего окривения. Попала — и довольно. Требую предъявления ума столь же острого, питательного и культивированного, как испанский лук!
Коняев молчал.
Щека пожелал помочь ему:
— Редкостность подобного ума не должна Вас смущать, ибо и испанский лук в Темьяне редкостен, однако же был предъявлен. Предъявите.
Щека сидел и ждал.
— Оставьте, — сказал Коняев. — Чертова штука — жизнь.
Он заходил по горнице.
— Чертова, — повторил он, — кому-то другому, невидимому, а не Щеке, — и опять стал у печки.
Часы хрипло тикали и урчал около ног Коняева рыжий кот, плешивый и старый. Прошло минуть пять.
— Молчание ваше, — сказал Щека, — меня тревожит. Свидетельствуюсь: предъявление не последовало. Опасаюсь, что и не последует. Лук испанский в Темьяне, оказывается, менее редкостен, чем ум. Это есть уже элегия. Не сатира, и не «письмо о пользе стекла», а следующий род: элегия. Сатирик некогда писал сатиру: «К уму моему». Превосходная сатира: ум-с собственный поставлен вне сомненности, и через то навсегда найден достойный собеседник, с коим возможен разговор о всеобщей глупости?! С «умом» же-с о чем и разговаривать, как не о глупости?! Сатирику древнему было хорошо-с. Наше дело значительно хуже-с. Ум не предъявлен. Собеседник отсутствует. Свое имущество в черепной коробке объявить умом, чтобы с легкостью и надписать: «к уму своему» — мы не решаемся. Я же и наипаче: принял справедливую сатиру в веко, — и молчу: — и не принимаю, если обращенное к моей черепной коробке приходит на адрес: «к уму». Вот вы, по человеколюбию, было обратились ко мне, якобы к умному человеку. А я — не принимаю. Возвращаю таковую корреспонденцию обратно. Но, посудите сами, должен же я хоть самомалейшее утешение получить, что есть и в Темьяне-с, истинный адресат, который корреспонденцию принять может: ум-с. Где же-с? Кто же-с? Обрадуйте!
Коняев с досадой сгреб со стола кучу книг, кинул их на станок, и сказал:
— А, да бросьте! Все это чепуха. Лучше будем чай пить. Мамаша! — окрикнул он мать, копошившуюся за перегородкой. — Вы бы самовар поставили.
— Поставлю сейчас, — ответила она.
— Что ж, чай пить, это можно, это занятие — всеобщее, не требующее ума. Указано другим сатириком, — удивительно, как при глупости нашей, мы ими богаты! — указано, как при глупости нашей, мы ими богаты! — указано, кроме чаепития, еще занятие, доступное для не имеющих ума! «Чтобы детей рожать, ума кому не доставало!» Но я не способен уже к сему занятию. Чай чаем, а предъявления не вижу.
Коняев схватил Щеку за плечи и потряс раз-другой, отошел, вернулся и, заглядывая ему в лицо, сказал строго:
— Вот что, черт возьми! Если вам больно, то кричите: больно! и к черту лук! Не смейте больше про лук, ибо это шутовство и глумленье! Имеется полное право кричать: без лука! Прямо в голос! И — «ум» — тоже тут к черту — вместе с луком! Человек имеет право, чтоб ему не было больно. И кричите: «бьют! Вся жизнь бьет!» Боль прежде ума. Черепная коробка, как вы выражаетесь, может быть пуста, но бить по ней никто не смеет! Коробка должна быть цела!
— Пустая-с? — переспросил вежливо Щека. — А ежели, молодой человек, вся боль-с только оттого, что в одной коробке лежит нечто… испанский лук-с, — засмеялся Щека, — а в другой — на бродячем мосту корабли с пылью потонули? Как тогда-с быть? Доложить лука в пустую коробку-с? Да и кого взять-с? и кто даст? и где-с? Ведь не предъявлено!
— Вы уперлись в одно слово: ум да ум. Черт меня дернул глупость эту написать! Нужно уничтожить боль. Боль причиняющих нужно вырвать с корнем. Нужно жизнь повалить на другой бок, на здоровый, а больной лечить. Оперировать. И вы к этому шли, да не собрано у вас в одно…
— А вы у меня читали-с? — ехидно спросил Щека. — Было условлено, что переплетчик неграмотен, — во всяком случае, в отношении текста писанного, а не печатного.
— Не читал, — покраснел Коняев, — а из слов вывожу…
— Напрасно-с: утрудили себя выводом. А «собрать», как изволили выразиться, я не мог опять по отсутствию лука — по неимению ума-с. Ухом одним, впрочем, осчастливлен был я слышать, что умными людьми уже «собрание» предначертано, предполагается всю глупость, действительно, собрать и взорвать-с, и затем, по точным чертежам, построить все заново — под фиговыми пальмами возвести палатки-с, но с электрическим освещением и усовершенствованными ватерклозетами, — и все бесплатно-с: и фиги, и свет, и ватерклозет, и без ограничения размеров пользования… С приблизительною точностью излагаю.
— Точность, действительно, приблизительная, — сказал, усмехнувшись, Коняев. — Продолжайте.
— Причина неточности: осчастливлен был всего лишь на одно, да и то не на полное ухо: поворот уха к слушанью в три четверти, не анфас, — и оттого ложный резонанс вполне возможен. Предваряю и предварял. Но хотел бы знать, входят ли в чертеж ватерклозеты?
— Входят, — буркнул Коняев.
— А будет ли, — преглупейший задаю вопрос, и даже в бесчинии некоем, — разрешено не желающим ими не пользоваться? — и чтобы, — пример, — простите, — выйти за город и на травке, а не в закрытом помещении?
— Глупость!
— Вот именно-с. Точнейше. Определеннейше: глупость. Но ведь ум не предъявлен, и обещана только полнейшая сохранность черепной коробки. И при том-с, — Щека злобно поглядел на Коняева, — и притом-с… — он нарочно замедлял и повторял слова, — притом есть просчёт небольшой: самый ум не определен-с. Пограничная черта не проведена, кущи обещаны, и, говорят, предприняты уже тайные шаги к их скорейшему возведению, и ватерклозеты уже спланированы, — но, повторяю и утруждаю: пограничная черта между умом и глупостью еще не проведена, и не охраняется никем и потому возможна контрабанда — оттуда — туда-с: от ума к глупости — и обратно. Ибо что есть ум?
В это время мать Коняева поставила самовар на стол, и хотела заварить чай, но Коняев махнул ей рукой, чтобы ушла, и сам засыпал в чайник.
— Ибо что есть ум? — повторил Щека с видимым наслаждением. — Ум есть не более, как общепринятая глупость. И обратно: глупость есть обще-не-принятый ум! — и не более, никак не более!
Привстал, сказал, — и присел на краешек стула.
— И посему — трудна таможенная политика, — и чревата ошибками. Ландкарт — нет-с. Границы плохо охраняются: пограничной стражи не хватает. — Да и где ее взять? — вдруг спросил Щека, уставившись холодными, презрительными глазами на Коняева, придвинувшего к нему стакан с крепким чаем. — Где-с? и кому охота охранять? Еще контрабандисты пулю всадят в задницу. — Щека встал, кутаясь, в воротник своей размахайки и сказал: — А неприкосновенность пустых черепных коробок, молодой человек, есть глупость — и недостижимо по финансовым соображениям: потребует миллионов-с! и — триллион на ватерклозеты-с! Испанский лук дорогонек-с! Человеколюбно, но не по карману-с! Жрите простой!
Он отодвинул от себя стакан, встал и, не простившись, пошел к двери, и с порога произнес, не обертываясь:
— Чая на ночь не пью!
И вышел от Коняева.
В соборе шел звон. Щека дрожал от ветряной стыди, нападавшей на него из боковых переулков, выводивших на реку. Он прислушивался к звону, — иногда поднимал голову, точно ловил в пепельном небе тонкое, летучее облако звона. Оно унеслось за реку. Щека быстрей зашагал к собору. Улицы были безлюдны. Привязанный на цепь щенок выл за городом молодо и заливисто. Щека поднял булыжник и бросил за забор: щенок перестал выть, — словно обрадовался случаю, и залаял деловито, срывающимся молодым голосом.
На колокольню Щека еле поднялся. У него останавливалось дыхание.


























