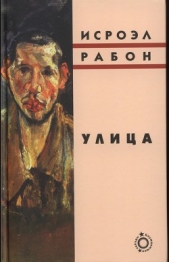Наша улица (сборник)

Наша улица (сборник) читать книгу онлайн
Старейший советский еврейский писатель 3. Вендров (Давид Ефимович Вендровский) начал свою литературную деятельность в 1900 году. Детство будущего писателя прошло в захолустном городке, где он видел нужду и бесправие еврейского населения "черты оседлости". Впоследствии писатель немало скитался по свету, исколесил вдоль и поперек Англию и Шотландию, побывал в Америке, испробовал много разных профессий. За 70 лет своей литературной деятельности 3. Вендров написал много рассказов, повестей, очерков, статей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1939
HA СУКОННОМ ОСТРОВЕ
1
Во второй раз мне посчастливилось устроиться у "Ротштейна и Клинковштейна" - одной из самых солидных фирм в городе.
Ротштейна персонал фирмы называл "стариком", Клинковилейна - "шефом".
Шая Ротштейн был патриархальным евреем, Клинковштейн - онемечившимся.
Клинковштейн был низкорослый и плотный. Его лицо цвета жженого кирпича украшали лихо закрученные вильгельмовские усы Туго накрахмаленный воротничок подпирал его мясистую, как толстая колбаса, шею.
Несмотря на короткие ручки и ножки и круглое пчвное брюшко, он был ловок, гибок и точен в движениях, как гимнаст. Он никогда не подзывал человека к себе, чтобы отдать ему распоряжение, свои приказы он выкрикивал на расстоянии, резко и громко, как команду на плацу.
Говорил он на онемеченном еврейском языке, Сывшсм в ходу в этом польско-немецко-еврейском фабричном и - роде. С простыми людьми он разговаривал по-польски.
Когда раздражался, он пользовался какой-то смесью немецкого, польского и еврейского, подбирая из каждого языка самые сильные выражения:
- Доннер веттер еще раз! Попридержи язык! А то я тебя выброшу до холеры, пся крев!
Лихо закрученные кончики усов поднимались тогда еще выше, шея-колбаса наливалась кровью - вот-вот с ним случится удар, а маленькие голубые бусинки глаз извергали огонь.
Все знали, что в такие минуты лучше всего промолчать, ни в коем случае не оправдываться. Покричав, "шеф"
остывал так же быстро, как воспламенялся, и угроза выбросить забывалась.
Ротштейн был во всем прямой противоположностью своему компаньону. Его барская фигура, сытое, изнеженное лицо и затуманенные глаза с плохо скрытым выражением плотоядности, его еврейско-французская холеная бородка - все говорило о многих поколениях, проживших свою жизнь в достатке и роскоши.
Походка у Ротштейна была неторопливая, движения сдержанные, речь спокойная и веская.
Никто никогда не слышал, чтобы Ротштейн повышал голос. Наоборот, когда он заговаривал тише обычного, глядя человеку прямо в глаза, тот не сомневался, что хозяин им недоволен. А когда Ротштейн, вместо того чтобы смотреть прямо в глаза, начинал во время разговора рассматривать свои собственные перламутровые ногти на белых холеных пальцах, человеку оставалось только подыскивать себе другую службу.
Ротштейна можно было чаще встретить на фабрике, чем в торговой конторе, но если уж он туда являлся, люди старались не попадаться ему на глаза.
Клинковштейн уже много лет назад сменил длинный лапсердак и хасидскую каскетку на короткий пиджак и шляпу. Ротштейн, хотя у него в доме разговаривали попольски и сам оя читал польские и немецкие газеты, продолжал носить длиннополый сюртук, правда, элегантный, с шелковыми лацканами, отлично сшитый, но все же еврейского покроя - длинный, ниже колен. Голову его украшала традиционная еврейская кепочка с маленьким козырьком.
Он не может, да и не хочет, говорил Ротштейн, идти против родни большой, богатой хасидской родни.
Во время своих частых поездок за границу Ротштейн менял традиционную одежду на европейскую. Тогда он выглядел европейцем в гораздо большей степени, чем "немец" Клинковштейн.
0 "немце" Клинковштейне говорили, что уж во всяком случае накануне судного дня он находит время съездить к цадику [Цадик - хасидский раввин-"чудотворец"]. Между тем ни для кого не было секретом, что берлинские ночные заведения и парижские кабаре больше знакомы патриархальному Ротштейну, чем "немцу" Клинковштейну.
Патриархальность одного и онемеченность другого нисколько не влияли на дружбу компаньонов и не нарушали гармонии их сотрудничества.
Ротштейн руководил фабрикой - огромной фабрикой сукон, работавшей в две смены, по десять часов каждая.
На этой фабрике было занято больше тысячи рабочих - сплошь немцы и поляки.
Еврейских рабочих на фабрику одинаково неохотно брали и длиннополый Ротштейн, и короткополый Клинковштейн.
- Я не могу останавливать фабрику на два дня в неделю: в субботу для еврейских рабочих и в воскресенье - для христианских, - говорил патриархальный Ротштейн.
- Больше половины наших рабочих составляют женщины, а еврейские женщины годны только для того, чтобы рожать детей. Работать у них нет ни желания, ни времени, - говорил "немец" Клинковштейн.
- Евреи - беспокойный элемент. Пятьдесят еврейских рабочих могут нам испортить девятьсот пятьдесят нееврейских, - доверительно говорили компаньоны своим близким.
Каждое утро, еще до того как фабричные гудки воз вещали о наступлении нового рабочего дня, к фабрику Ротштейна и Клинковштейна широким потоком устрем лялись рабочие и работницы, старые, с изможденными лицами и натруженными руками; молодые, ловкие, с упругой походкой. Мужчины в поношенных пиджаках сверх синих блуз, в немецких кепках и польских каскетках с блестящими козырьками; женщины, одетые бедно, но опрятно, простоволосые или же в платочках, кокетливо завязанных на затылке, шли без выражения радости и удовлетворения, которые должен давать человеку труд.
Фабрика занимала два длинных мрачных корпуса по обе стороны двора, тоже длинного и узкого, похожего на туннель, без луча солнца, с железными воротами, охраняемыми как в тюрьме. Двадцать часов в сутки этот двор-туннель был наполнен шумом и движением. Дрожали стекла окон, дрожали стены фабричных корпусов; на механических ткацких станках с быстротой молнии сновали взад-вперед челноки. То и дело широко раскрывались ворота, впуская и выпуская большие, груженные доверху фургоны с пряжей, с сырьем и кусками сукна.
Но сходство фабричного двора с тюрьмой не становилось от этого меньше. Что-то неуютное, гнетущее было в этом темном дворе с запертыми на засов воротами, с контрольной будкой и в том, как выпускали со двора рабочих после работы.
По одному проходили они по узкому проходу мимо ощупывающих глаз двух вахтеров. Не всегда вахтеры доверяли своим глазам, иногда пускались в ход и руки, бесцеремонно шарившие по телам и карманам рабочих.
Часть рабочих относилась к этим обыскам с безразличием, в котором таилось презрение: "На, ищи, если тебе хочется, черт с тобой". Других это возмущало:
- У, церберы, пся крев!
- Оставь их! Они ведь только цепные собаки: что хозяин велит, то и делают.
- Сукины сыны!
- Бранью делу не поможешь! - говорил Станислав Броницкий, молодой ткач, которого хозяева давно выбросили бы с фабрики, если бы были уверены, что это пройдет безнаказанно. - Лучше бы вы что-нибудь сделали для того, чтобы добиться отмены обысков!
- Сделать? Что ты можешь сделать, когда двадцать других всегда готовы занять твое место у станка!
- Наберись терпения, Владек! Не вечно так будет.
Мы еще доживем до той поры, когда исчезнут не только эти собаки у ворот, но и хозяева их за зеркальными окнами! - задорно произносил какой-нибудь молодой голос.
- Ну-ну, тут не место таким разговорам! - замечал Станислав и проходил между двумя вахтерами, глядя им прямо в лицо, как укротитель зверей смотрит в глаза зверя. "А ну, попробуйте только обыскать меня!" - говорил его взгляд.
Случалось, работница, которую вахтер слишком рьяно ощупывал, ударяла его по руке:
- Прочь свои грязные лапы! Что ты туда положил?
Чего лезешь?
2
Торговый склад "Ротштейн и Клинковштейн" занимал весь фасад дома на главной улице города. Здесь все было солидно, "на немецкий манер": колоссальные залы с большими зеркальными окнами, с блестящими паркетными полами, как в банке, с полированными полками, сверху донизу набитыми драпом, шевиотом и разнообразными сукнами.
На суконном острове "Ротштейн и Клинковштейн", как и во всем суконном царстве большого фабричного " города, армия наемных рабов в белых воротничках и без оных делилась на три категории: служащих, "молодых людей" и "хлопов".
Доверенные лица, управляющие, разного рода заведующие, главные бухгалтеры, крупные коммивояжеры, старые опытные приказчики считались служащими.