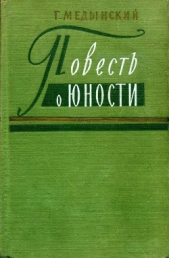Записки жильца

Записки жильца читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- В студенческом общежитии на Старосельской. А потом в другом общежитии. По правде говоря, я вам набиваюсь в земляки, я сам из села. Только учился в вашем городе.
- Где вы учились?
Красноармеец ответил почему-то не сразу, как-то задумчиво:
- В университете. На филфаке.
- Вот неожиданность! Наверно, я вас не узнаю, бородой обросли. Как ваша фамилия?
- Литвинец Григорий Иосифович, - все так же задумчиво и медленно ответил красноармеец. - Не помню вас, а я ведь знал в лицо почти всех студентов филфака. Я работал лаборантом.
Красноармеец, как близорукий, придвинул свое бородатое молодое лицо к лицу Лоренца.
- Боже ж мой, неужели... Послушайте, вы не Лоренц?
- Лоренц. Вы меня знаете?
- Так вас весь факультет знает. Легендарная личность. Автор знаменитой статьи об алано-сакской топонимике южноевропейского региона. Правда? Были несогласные, поддержал академик Орбели.
Лоренц был польщен.
- Статья-то моя, но вряд ли она знаменитая. Собственно говоря, к моим основным научным интересам она не имеет прямого отношения. Отдых пера.
- Подумать только, какая встреча, и где - в свинарнике на оккупированной территории! Студенты о вас говорили: "Человек-загадка. Опубликовал несколько превосходных работ в Москве, а у нас в университете не то что ассистенты, кандидаты наук, да и не все профессора до такой чести доросли, - и вот работает лаборантом. Обзванивает преподавателей, утрясает и чертит график". Действительно - загадка.
- Так получилось. Когда я кончил восемь лет тому назад, обещали мне место ассистента, годы шли, вакансии все не было.
- Вакансия... Она опасна, если не пуста. В аспирантуру не подавали?
- Не подавал. Меня предупредили, что партийная и комсомольская организации не будут меня рекомендовать, нечего мне позориться.
- А правда, что вы знаете тридцать языков?
- Гипербола в эпическом стиле. Кроме славянских, составляющих мою специальность, я знаю немецкий, немного французский, читаю греческие и латинские тексты. Начал изучать персидский, но война помешала, да и арабская графика мне трудно давалась.
- А правда, что вы дали обет целомудрия?
- Неправда.
- И слава Богу. А то в наш век женщины - это единственная радость. И опора. Вы в этом еще не убедились на опыте? Не краснейте, не буду. Скажу о другом. Я тоже знаю один иностранный язык, и как раз немецкий. Давайте поболтаем.
Он говорил по-немецки отлично, неожиданно с нижненемецким, как определил Лоренц, акцентом. Объяснил это тем, что их село расположено рядом с менонитской колонией на Николаевщине, а у тех колонистов нижненемецкое произношение, для него это был язык детства. Тут же рассказал о своем юношеском романе с девушкой из немецкой колонии - рассказ был грубоватый, малоинтересный.
Дорога стала легче, потому что пошли вдвоем. Шли долго, все полями, полями, заброшенными огородами, задами сел, стараясь держаться подальше от городов, поселков, железнодорожных станций и разъездов. Большая часть Украины была под немцем, но ее земля этого не знала, она жила своей обычной жизнью, пила дождь, ела снег, берегла и лелеяла существование всего произраставшего. И Миша и Литвинец жили, как земля, с той только разницей, что у них не было спокойствия земли, они-то знали, что они - под немцем, и боялись. Изредка судьба посылала им хороший день, и тогда, частицы земли, они вновь становились частицами людской семьи, ели и спали в хате. А за Кременчугом, на окраине совхоза, они прожили у одной женщины чуть ли не целую неделю, хотя в совхозе стояли немцы, говорили - взвод, и директор служил немцам, и зять партийного секретаря был полицаем (сам секретарь партизанил где-то в плавнях). Но сладкая была та неделя! Григорий Литвинец стал мужем хозяйки, ночью он спал с ней в хате, а днем с Мишей прятался в погребе, они читали книгу: "Хиба ревуть волы, як ясла повни", для скорости чтения вырывая листы, простодушие книги успокаивало. Хозяйка спускалась к ним с молоком, салом. Однажды вечером она привела женщину для Миши, и та женщина принесла в эмалированном чайнике самогон. Выпили вчетвером, Миша захмелел, заснул, та женщина вывела его, сонного, за занавеску к скамье под рукомойником, усадила, звонко полила на него воду из-под гвоздя и все говорила:
- Какой вы невыдержанный.
Она была нездешняя, эвакуированная из города. Ее подруга, Гришина хозяйка, открылась ей, предупредила о своих гостях, и она два дня готовилась к нечаянной радости, и когда пила, опрокидывала граненый стакан в рот по-мужски и при этом восклицала:
- Я как штык!
Она не теряла надежды, не злилась на Мишу, не отходила от него, они так и заснули на скамье под рукомойником. В окошко глядела волшебными глазами осенняя запорожская ночь, когда Миша, с разламывающейся головой, проснулся. Та женщина спала, сидя с ним рядом, положив голову ему на грудь, она храпела, и порой голова ее вздрагивала, но тело оставалось недвижным, горячее, с мягкой тяжестью. Миша остерегался отодвинуться, чтобы не разбудить ее, наконец решился. Он прислонил голову женщины к стене. Она открыла глаза, вздрогнула, но тут же заснула снова. Миша откинул занавеску, увидел на высокой кровати Литвинца и хозяйку. Одеяла не было, он голый, она в нижней рубахе. Литвинец сбрил бороду, и он лежал такой молоденький, томный. Глаза у Литвинца были ожидающе раскрыты. Миша понял: надо быстро одеться и выйти. Когда он тихо покинул хату, поднялся и Литвинец, но разбудил при этом хозяйку. Она пролепетала:
- Куда ты, Грицько?
- На двор.
Она семейно обняла его, пробормотала что-то милое, повернулась на другой бок и заснула. Она заголилась, и Литвинец, бережно переступая через нее, так же бережно поправил на ней рубаху. Он неслышно, почти не дыша, оделся, пошарил в шкафчике, вышел. На дворе, мелко дрожа, ожидал его Миша. Видно было, что Миша чувствует себя плохо от выпитого самогона. И они молча двинулись в путь, и то был путь к своим среди чужих, и снова кругом ночь, поле, редкие огоньки, доброта украинского неба и ужас иноземного владычества на земле. Литвинец сказал:
-- Я с добычей: хлеб и цыбуля.
Помолчав он спросил:
- Осуждаете меня?
И, не дождавшись ответа, не желая ответа, заговорил:
- Вы меня тогда, в свинарнике, не узнали не потому, что я отпустил бороду. Я с середины второго курса перестал посещать университет, вот вы меня и забыли, а я не раз приходил к вам по всяким скучным делам, был старостой группы. Теперь я перешел бы уже на пятый курс. Когда мы доберемся до наших, вы подтвердите, что я студент пятого курса.
- Охотно... Почему вы столько лет не ходили на занятия?
- Я не ходил, потому что сидел.
- Как сидели?
- В зубоврачебном кресле. Пустой вопрос. Не как, а где. В тюрьме.
Веселая отчаянная украинская печаль засветилась в глазах Литвинца. Вот идут они вместе по родной земле, захваченной чужеземцами, сын города и деревенский парень, праправнук саксонского ремесленника и потомок хлеборобов-крепаков, оба высокие, голубоглазые, светловолосые, и даже в их именах есть созвучие - Миша Лоренц и Гриша Литвинец, и могло бы случиться так, что не Литвинец, а Лоренц сидел бы в тюрьме.
- Когда вас выпустили?
- А нас, глубокочтимый пан Михаил, выпустили всех до единого еще в августе, и чабаны в чекистской форме погнали нашу отару на Вознесенск, и по плану нашего командования должны были мы дотягивать свои сроки в вознесенской тюрьме. Но по плану немецкого командования Вознесенск был уже взят, и чабаны погнали нас дальше на восток. Многие поумирали в дороге, ведь мы были остовы ходячие, бараны и овцы, мужчины и женщины. И вот что я, хитрый хохол, заметил: свалится бытовик или уголовник - не обращают никакого внимания чабаны, пусть гниет, где лег, а подохнет наша пятьдесят восьмая статья - остановятся, хотя и бегут от немца, составят акт, хотя и торопится конвой, задерживаться не желает. И все эти акты, все наши дела увозились на двух легковых машинах, в каждой - по начальничку, и у нашего конвоя связь не прерывалась с теми машинами, как дойдем до сельсовета, начальник конвоя начинает крутить телефон, нам в окно видно. Надо сказать, что постепенно отара наша, хоть и поредевшая, на той дороге окрепла, все же воздух чистый, теплый, а пища в поле да на бахчах растет, конвой напуганный, очеловеченный. Так добрели мы до новой географической точки. Городок зеленый, на высоком берегу, река течет из леса, все как в мирное время, только та странность, что детишки на улице не играют, а мы идем по улице все в гору да в гору, а на горе тюрьма, небольшая такая тюрьма местного значения, она, может, еще при Николае Васильевиче Гоголе сооружалась. Впихнули нас в тюремный двор. Прямо на дворе перед входом в трехэтажное здание сидит на стуле венском, как дома, лейтенант, начальник той небольшой старосветской тюрьмы, а перед ним на письменном столе - папки, наши дела, прибывшие на легковых машинах раньше нас, а над ним и над нами - немецкие самолеты, и слепому ясно, что немцы близко, может, рядом, и лейтенант нервничает, переживает, сильно трусит, ему бы поскорее лечь на курс, рвануть в машине на восток, и нет у него времени читать наши дела, и вот для быстроты и простоты организует он опрос так, чтобы мы сами называли свое имя, отчество, фамилию, статью, срок. Раскрывает одну из папок, будто сверяет бумагу с нашими показаниями, а папка взята для виду, наобум, нет у него времени, время теперь принадлежит немцам, а ему удирать надо. Кто говорит: "Пятьдесят восьмая, пункт такой-то", того направо, и там - почти весь наш конвой, а воров, взяточников, спекулянтов, насильников и представительниц древнейшей профессии - налево, и там лишь один охранник. И торопится, торопится лейтенант, к нему другой лейтенант выбегает из старосветского здания, и наш ему: "Ты бы мне помог", - а тот: "Мне своих дел хватает, давай-давай". И вот доходит очередь до меня, и я отвечаю - Литвинец Григорий Иосифович, статья такая-то, хищение имущества. Мой сосед по камере от меня далеко в толпе, меня не слышит, а слышит меня знакомый из другой камеры, тоже пятьдесят восьмая, но он быстро перенимает мой опыт, и мы с ним оказываемся на одной стороне. А когда всех опросили, загудела на дворе трехтонка под брезентом, стали сотруднички грузить папки и сами уселись, и лейтенант нас отпустил, он торопился, торопился, идите, говорит, к линии фронта, искупите кровью. Мы и побежали в лес, расползлись кто куда, а тут послышались выстрелы, это по приказу начальника тюрьмы расстреливали всю пятьдесят восьмую статью, чтобы немцам не досталась. А мы, живые, каждый по собственному азимуту, я, например, к линии фронта, искупить кровью. Под Первомайском я снял с убитого бойца обмундирование. Чтобы все следы моего пребывания в тюрьме исчезли, мог бы и документы того убитого хлопца взять, но я их уничтожил: хочу жить и умереть под своим именем.