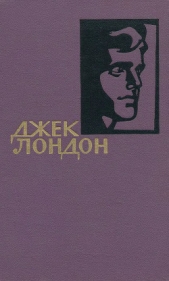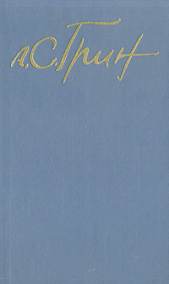Том 7. Мать. Рассказы, очерки 1906-1907

Том 7. Мать. Рассказы, очерки 1906-1907 читать книгу онлайн
В седьмой том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1906–1907 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «В Америке», «Мои интервью», «Солдаты», «Товарищ!», «9-е января», «Мать». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Некоторые из них в последний раз редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов. Остальные три произведения седьмого тома — «Чарли Мэн», «Послание в пространство», «[Как я первый раз услышал о Гарибальди]» — включаются в собрание сочинений впервые. Эти произведения М. Горький повторно не редактировал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы видите, как раздражён народ.
— Вполне законно, вполне!
— Безумства будут… ай-ай-ай!
Люди таяли в сумраке вечера, расходились по домам и несли с собой незнакомую им тревогу, пугающее ощущение одиночества, полупроснувшееся сознание драмы своей жизни, бесправной, бессмысленной жизни рабов… И готовность немедленно приспособиться ко всему, что будет выгодно, удобно…
Становилось страшно. Тьма разрывала связь между людьми, — слабую связь внешнего интереса. И каждый, кто не имел огня в груди, спешил скорее в свой привычный угол.
Темнело. Но огни не загорались…
— Драгуны! — крикнул хриплый голос.
Из-за угла вдруг вывернулся небольшой конный отряд, несколько секунд лошади нерешительно топтались на месте и вдруг помчались на людей. Солдаты странно завыли, заревели, и было в этом звуке что-то нечеловеческое, тёмное, слепое, непонятно близкое тоскливому отчаянию. Во тьме и люди и лошади стали мельче и черней. Шашки блестели тускло, криков было меньше, и больше слышалось ударов.
— Бей их чем попало, товарищи! Кровь за кровь, — бей!
— Беги!..
— Не смей, солдат! Я тебе не мужик!
— Товарищи, камнями!
Опрокидывая маленькие тёмные фигуры, лошади прыгали, ржали, храпели, звенела сталь, раздавалась команда.
— От-деление…
Пела труба, торопливо и нервно. Бежали люди, толкая друг друга, падая. Улица пустела, а посреди неё на земле явились тёмные бугры, и где-то в глубине, за поворотом, раздавался тяжёлый, быстрый топот лошадей…
— Вы ранены, товарищ?
— Отсекли ухо… кажется…
— Что сделаешь с голыми руками!..
В пустой улице гулко отдалось эхо выстрелов.
— Не устали ещё, — дьяволы!
Молчание. Торопливые шаги. Так странно, что мало звуков и нет движения в этой улице. Отовсюду несётся глухой, влажный гул, — точно море влилось в город.
Где-то близко тихий стон колеблется во тьме… Кто-то бежит и дышит тяжко, прерывисто.
Тревожный вопрос:
— Что, ранен?.. Яков?
— Постой, ничего! — отвечает хриплый голос.
Из-за угла, где скрылись драгуны, снова является толпа и густо, чёрно течёт во всю ширину улицы. Некто, идущий впереди и неотделимый от толпы во тьме, говорит:
— Сегодня с нас взяли кровью обязательство — отныне мы должны быть гражданами.
Нервно всхлипнув, его перебил другой голос:
— Да, — показали себя отцы наши!
И кто-то, угрожая, произнёс:
— Мы не забудем этот день!
Шли быстро, плотной кучей, говорили многие сразу, голоса хаотично сливались в угрюмый, тёмный гул. Порою кто-нибудь, возвысив голос до крика, заглушал на минуту всех.
— Сколько перебито людей!
— За что?
— Нет! Нам невозможно забыть этот день!..
Со стороны раздался надорванный и хриплый возглас, зловещий, как пророчество.
— Забудете, рабы! Что вам — чужая кровь?
— Молчи, Яков…
Стало темнее и тише. Люди шли, оглядываясь в сторону голоса, ворчали.
Из окна дома на улицу осторожно падал жёлтый свет. В пятне его у фонаря были видны двое чёрных людей. Один, сидя на земле, опирался спиной о фонарь, другой, наклонясь над ним, должно быть, хотел поднять его. И снова кто-то из них сказал, глухо и грустно:
— Рабы…
Мать
Часть первая
Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощеной улице к высоким каменным клеткам фабрики; она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух, а встречу людям плыли иные звуки — тяжелая возня машин, ворчание пара. Угрюмо и строго маячили высокие черные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки.
Вечером, когда садилось солнце, и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, — фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление, и даже радость, — на сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых.
День проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал еще шаг к своей могиле, но он видел близко перед собой наслаждение отдыха, радости дымного кабака и — был доволен.
По праздникам спали часов до десяти, потом люди солидные и женатые одевались в свое лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая молодежь за ее равнодушие к церкви. Из церкви возвращались домой, ели пироги и снова ложились спать — до вечера.
Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки. Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, кто имел галоши, надевал их, если даже было сухо, а имея дождевой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце.
Встречаясь друг с другом, говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров, — говорили и думали только о том, что связано с работой. Одинокие искры неумелой, бессильной мысли едва мерцали в скучном однообразии дней. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их, не щадя кулаков. Молодежь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные, некрасивые песни, танцевала, сквернословила и пила. Истомленные трудом люди пьянели быстро, во всех грудях пробуждалось непонятное, болезненное раздражение. Оно требовало выхода. И, цепко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди из-за пустяков бросались друг на друга с озлоблением зверей. Возникали кровавые драки. Порою они кончались тяжкими увечьями, изредка — убийством.
В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей злобы, оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с этою болезнью души, наследуя ее от отцов, и она черною тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью.
По праздникам молодежь являлась домой поздно ночью в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товарищам ударами, или оскорбленная, в гневе или слезах обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они отыскивали их где-нибудь под забором на улице или в кабаках бесчувственно пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкие, разжиженные водкой тела детей, потом более или менее заботливо укладывали их спать, чтобы рано утром, когда в воздухе темным ручьем потечет сердитый рев гудка, разбудить их для работы.
Ругали и били детей тяжело, но пьянство и драки молодежи казались старикам вполне законным явлением, — когда отцы были молоды, они тоже пили и дрались, их тоже били матери и отцы. Жизнь всегда была такова, — она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком годы и годы и вся была связана крепкими, давними привычками думать и делать одно и то же, изо дня в день. И никто не имел желания попытаться изменить ее.
Изредка в слободку приходили откуда-то посторонние люди. Сначала они обращали на себя внимание просто тем, что были чужие, затем возбуждали к себе легкий, внешний интерес рассказами о местах, где они работали, потом новизна стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незаметными. Из их рассказов было ясно: жизнь рабочего везде одинакова. А если это так — о чем же разговаривать?
Но иногда некоторые из них говорили что-то неслыханное в слободке. С ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво. Эти речи у одних возбуждали слепое раздражение, у других смутную тревогу, третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу.