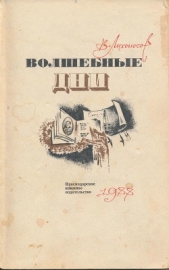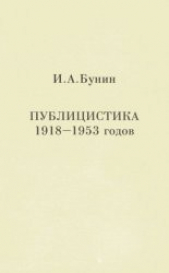Городу и миру

Городу и миру читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Каждым словом этой статьи Солженицын требует распространения на Восток принципов западной свободы самовыражения, западных критериев нормального права.
Весь целиком погруженный в оставшееся за спиной, Солженицын в очередной раз постулирует неделимость мировых судеб и формулирует одну из излюбленных своих параллелей: разрядка - Мюнхен.
"Но нельзя превращать разрядку напряженности в растянутый поступенчатый Мюнхен. Сегодня хрустят наши косточки - это верный залог, что завтра будут хрустеть ваши.
Мои предупреждения исходят из многолетнего советского опыта, вся жизнь моя была посвящена изучению этой системы. От кого зависят судьбы Запада, могут и сегодня пренебречь моими предупреждениями. Они вспомнят их, когда клочок вот этого листа "Афтенпостен" нельзя будет достать иначе, как под угрозой тюремного срока" (II, стр. 57. Разрядка Солженицына).
В том-то и дело, что судьбы Запада зависят не от узкого круга правителей, а от всех граждан, и в первую очередь от тех, кто формирует западное общественное мнение. Роль их, как никогда, велика. Они же, в массе своей, слышат лишь то, что хотят услышать, и это же ретранслируют обществу.
Основа демократии - свобода печати, и мы уже много писали об отношении Солженицына к свободе печати в бытность его на родине: он требовал ее как правило безоговорочно, только в "Письме вождям", изначально построенном на компромиссах, соглашаясь на свободу лишь для неполитической литературы. Но пребывание его на Западе в первый же день ознаменовалось конфликтом с прессой: он отказался говорить с ее представителями. Один глубоко уважаемый мной и близкий мне по убеждениям человек писал мне не так давно по этому поводу: "Ему было нечего сказать! Каждый из нас был бы счастлив прорваться к микрофонам, но нам их к нашему рту не протягивали. А ему нечего сказать! Не ссылайтесь на то, что он потом говорил, момент был упущен. Он сделал хуже, чем молчал, он просто гнал журналистов, накидывался на них. Они могут быть назойливыми, но все же... Был уже сразу создан определенный образ, подтвержденный Гарвардской речью..." (Выд. автором письма).
О Гарвардской речи - позже, а пока я все же сошлюсь "на то, что он потом говорил". Вся моя книга - о том, что он до этого и потом говорил: микрофоны остались у его рта, и он многократно ими воспользовался. Может быть, более удачной тактикой был бы выразительный монолог на уровне лучших речей Солженицына сразу по прилете. Тогда не возникли бы в первые же часы его пребывания вне СССР негативные, с точки зрения либеральной элиты свободного мира, его "media" и некоторых россиян на Западе, штрихи в его образе. Но он не смог произнести этот монолог, не переведя дыхания после переброски "Лефортово - Франкфурт-на-Майне". Да и слишком безопасной и оттого недостаточно веской, непривычно облегченной для говорящего показалась ему, быть может, первая возможная речь на ветру изгнания. Я приведу пространные выдержки из двух документов, в которых Солженицын говорит об этой короткой и неожиданной для всех немоте. Первый из них "Бодался теленок с дубом", где сказано:
"Вечером, в маленькой деревушке Бёлля мы пробирались меж двух рядов корреспондентских автомобилей, уже уставленных вдоль узких улочек. Под фотовспышками вскочили в дом, до ночи и потом с утра слышали гомон корреспондентов под домом. Милый Генрих развалил свою работу, бедняга, распахнул мне гостеприимство. Утром, как объяснили мне, неизбежно выйти, стать добычей фотографов - и что-то сказать.
Сказать? Всю жизнь я мучился невозможностью громко говорить правду. Вся жизнь моя состояла в прорезании к этой открытой публичной правде. И вот, наконец, я стал свободен как никогда, без топора над головою, и десятки микрофонов крупнейших всемирных агентств были протянуты к моему рту - говори! И даже неестественно не говорить! Сейчас можно сделать самые важные заявления - и их разнесут, разнесут, разнесут - ...А внутри меня что-то пресеклось. От быстроты пересадки, не успел даже в себе разобраться, не то что подготовиться говорить? И это. Но больше - вдруг показалось малодостойно: браниться из безопасности, там говорить, где и все говорят, где дозволено. И вышло из меня само:
- Я - достаточно говорил, пока был в Советском Союзе. А теперь помолчу.
И сейчас, отдаля, думаю: это - правильно вышло, чувство - не обмануло. (И когда потом семья уже приехала в Цюрих, и опять рвались корреспонденты, полагая, что уж теперь-то, совсем ничего не боясь, я сказану, - опять ничего не достраивалось, нечего было объявить.)
Помолчу - я имел в виду помолчать перед микрофонами, а свое состояние в Европе я уже с первых часов, с первых минут понял как деятельность, нестесненную наконец: 27 лет писал я в стол, сколько ни печатай издали - не сделаешь, как надо. Только теперь я могу живо и бережно убрать свой урожай. Для меня было главное: из лефортовской смерти выпустили печатать книги.
А у нас там в России, мое заявление могло быть истолковано и загадочно: да как же это - помолчу? за столько стиснутых глоток - как же можно молчать? Для них, там, главное было - насилие, надо мной совершенное, над ними совершаемое, а я - молчу?
...Так и среди близких людей разность жизненной встряски даже за сутки может родить разнопонимание" (III, стр. 478-479. Курсив и разрядка Солженицына).
И тем более - среди неблизких. Это было в феврале 1974 года. А уже в марте начались короткие печатные выступления и затем интервью, в одном из которых (II, стр. 58-80; 17.VI.74) корреспондент телекомпании CBS Уолтер задает Солженицыну прямой вопрос:
"- Хотелось бы знать Ваше мнение о западных средствах получать и передавать информацию, как оно сложилось после Вашей высылки.
- Ну, что сказать? Надо сразу сказать: западная пресса помогла мне, Сахарову, всем нам выстаивать годами, а особенно помогла в августе-сентябре прошлого года. Так что я, конечно, могу быть западной прессе только благодарен. Но свежими глазами иногда можно увидеть то, чего люди, живущие постоянно, - не видят. Вот, я с этим кусочком хлеба, из Лефортово, из последнего недоеденного лефортовского обеда, внезапно приезжаю в Западную Европу, еще три часа назад я ожидал расстрела, три часа назад. Вдруг мне объявляют, что я высылаюсь, - куда? - и неожиданно во Франкфурте-на-Майне высаживают. И почти с этого момента начинается штурм, западная пресса обрушивается на меня. Я еще не могу в голове вместить того, что произошло, я сотрясен происшедшим, я не имею расположения что-либо заявлять. А они требуют, чтоб я высказывался, будто я приехал с готовыми высказываниями. Я нахожусь на единственную фразу, что я "достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу". Но вот день за днем пресса от меня не отстает, она преследует меня всюду: дежурит около дома Бёлля, потом около дома адвоката, в осаде я нахожусь. Хочу выйти, хоть подышать, хоть ночью, когда никого нет. Выхожу на задний балкон, где корреспондентов нет, - вдруг два прожектора, вот таких вот прожектора на меня, и фотографируют, ночью! Я иду со спутниками, разговариваю, подсовывают микрофон, несколько микрофонов, узнать - что я говорю своим спутникам? и передать своим агентствам, - ну, я в такую минуту раздосадовался, говорю: "да вы хуже кагебистов!" подхватили! первое высказывание: Солженицын приехал на Запад и заявил: "Западная пресса хуже КГБ", - как будто я собрал пресс-конференцию и так заявил. Я думал, скажу: "Господа, поймите, я сейчас не в состоянии с вами разговаривать, дайте мне отдышаться, я хочу побыть один", - и оставят в покое. Нет! И это потом продолжалось долго, когда я ездил в Норвегию, когда вернулся, когда приехала моя семья, семья приехала бессонная, измученная, нет, позируйте, выходите, позируйте нам! Отказались. Тогда прорвались тут, вокруг нашего дома, топчут все, что соседи насадили, как стадо бизонов, чтобы что-нибудь сфотографировать. Им говорю: "Ну почему так? раз я вас прошу: я сейчас не буду говорить; пожалуйста, оставьте нас." Отвечают, милые молодые люди, откровенно: "Никак не можем. Нам приказано, если мы не выполним, нас уволят." Знаете, вот это очень скользкая, опасная формулировка: если я не выполню - меня уволят. Так это сейчас любой угнетатель в Советском Союзе скажет: а я выполняю приказ, а если я не выполню - меня уволят. Видите, каждая профессия, если она начинает разрушать нравственные нормы жизни, должна сама себя ограничить. Действительно, западную прессу здесь не связывает, не останавливает ничто, никакая полиция, ни власти. Ну, тогда надо ограничить самим себя. Надо сказать: вот тут есть порог, нравственный, вот сейчас нужно отказаться. Всякие достоинства, если предела им не поставить, если не ограничить, переходят в недостатки" (II, стр. 59-60).